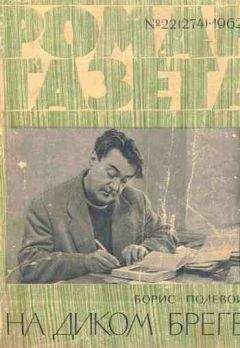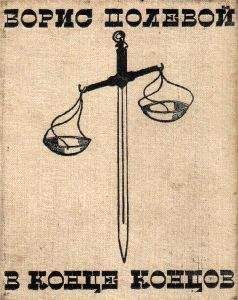Борис Полевой - На диком бреге (С иллюстрациями)
Предполагалось, что по старой памяти поведет их «на поле» Савватей Седых вместе со своим верным Рексом. Старик знал тайгу так, что, казалось, мог ходить по ней с закрытыми глазами: держал в памяти все звериные тропы, места птичьих гнездований. Денег он за егерство не брал: не в обычаях края. Литвинов припас для такого случая подарок — финский охотничий нож. Этот нож он сам получил как сувенир от директора строящегося лесокомбината, ездившего за опытом в Финляндию. К общему огорчению, гостеприимный старик встретил охотников не то чтобы неприветливо, а как-то вяло. Он трудился под навесом, фугуя доску, и, казалось, даже не услышал приближения машины. Только когда Петрович подвел своего «козла» чуть ли не вплотную, старик выпрямился, откинул со лба седые взмокшие пряди и без удивления произнес:
— А, вона кто! А я думаю-от, кто это в эдакую рань в тайге тарахтит. — Он подал приезжим руку; сухая, обычно крепкая рука с заскорузлой, будто подошва, ладонью была какой-то безжизненной.
— К тебе, Савватей Мокеич, бить челом. Пополюем, — попросил Литвинов, с беспокойством замечая, как за полгода старик осунулся, будто ссохся. Черные глаза запали, утеряли былой блеск. Они равнодушно смотрели из углубившихся темных впадин, а волосы, свалявшиеся в косицы, совсем по-старчески свисали на лоб.
— Отполевал я, — ответил старик и, заметив на лицах гостей недоумение, равнодушно пояснил: — Помру скоро. — Еще несколько раз шаркнул по доске фуганком, опять отер рукавом пот, продул жало, бережно отложил инструмент.
Была в этих простых словах такая убежденность, что обычные в таких случаях разуверения и утешения не шли на язык.
— Да, ты что-то неважно выглядишь.
— Известно-от, хворь и поросенка не красит... Пошли в избу что ли...
Все такая же стояла в домике душистая полутьма, так же пахло медом, воском, травами, черемшой, те же тикали ходики. Но было и новое — какая-то домовитая чистота. В углу из ризы потемневшего чеканного серебра виднелся длинный прямой носик строгой богородицы, державшей в руках младенца, похожего на куклу-матрешку.
— Глафира-от совсем ко мне перебазировалась, — бледно улыбнулся старик. — Вместе со своим опиумом. Пришлось и богородицу пустить. Да ладно, места не провисит.
— Да что с вами, Савватей Мокеич? — спросил Надточиев, чувствуя, как нарастает в нем тягостная неловкость за этот визит, оказавшийся таким несвоевременным. — Врачи-то что говорят?
— А, врачи! — Старик махнул рукой. — Кеша мой — может, в «Старосибирской правде» читали, да и по радио это говорили — в Ново-Кряжове целую-от полуклинику отгрохал. Все они тут перебывали. Однако что он, врач, когда даже Глафира от меня отступилась. Мажу вон грудь ее мазью из пчелиного прополиса да медвежьего сала. Маленько помогает, не так першит... Врачи... У смерти в глазах-от все равны: что ты профессор, что ты ведун, вроде Глафиры. Смерть причину сыщет. — И, явно желая оборвать этот разговор, сказал: — А чего вам тут торчать? Полевать так полевать. Вон и солнышко из-за деревьев вываливает.
Савватей посоветовал попытать счастья по тетеревам. Растолковал дорогу в рябинник, где в эту пору отъевшиеся за осень птицы клюют тронутую заморозком ягоду. Смахнул со стола пучки трав, вырвал из тетрадки лист и, сориентировавшись по старинному компасу, нетвердой рукой набросал грубую карту пути. Пометил на ней балочку, валун, известную всем «партизанскую пихту», возле которой когда-то колчаковцы расстреляли его старшего сына, и одинокую сосну, где страшно окончил жизнь человек, предавший партизан. Он вручил охотникам эту самодельную карту. По таким ходили, вероятно, в здешних краях промысловые люди времен Ермака Тимофеевича. Растолковал путь, потрепал Рекса, с тоскливым беспокойством наблюдавшего сборы.
— Ну, ни пуха вам, ни пера. А мы с тобой, Рекс, на печку. — И было в этих просто произнесенных словах что-то такое, от чего старый, уже поседевший рыжей собачьей сединой кобель издал короткий, щемящий вой...
— Странно, этот Савватей — умница, не верит ни в бога, ни в черта, ни в сон, ни в чох. Еще в гражданскую был партизаном, и вдруг этот первобытный фатализм, — задумчиво произнес Надточиев, когда охотники отшагали уже немало километров. — Странно, даже дико.
— Кто его знает! — обернулся Литвинов. Скорым шагом опытного пешехода, на редкость проворным при его медвежеватой стати, он все время опережал длинноногого инженера. — А может, и есть что-то такое, чего наука еще не открыла. Биотоки какие-нибудь, что ли... Вот мой отец покрепче меня был, на спор с купцом штоф водки единым духом из горлышка однажды высадил. Бывало, на Волге деревня на деревню на масленой на кулачки выйдут; как послышится: «Гришка-лоцман!» — так чужая стенка и дрогнет... А однажды, я уже был в Твери на рабфаке, вдруг письмо: «Приезжай прощаться. До вербного воскресенья, дальше не дотяну». Зачеты были; думаю — чушь, мистика... На пять дней задержался и не застал: похоронили... Может быть, оно что-то и есть, от чего бывают предчувствия.
До «партизанской пихты» путь лежал по таежной дороге. Весной, когда кряжовцы перевозили свои дома, дорогу плотно утрамбовали множеством шин и гусениц. Стебли вдоль колеи и сейчас еще кое-где чернели от автола. Но колхоз переехал, тайга перешла в наступление, трава закрыла колею, тут и там уже выбивались из нее березки, сосенки, пихточки-годовички. Лишь один человек прошел на заре по этой дороге, и в тенистых местах, где еще держался кристаллический иней, были четко оттиснуты его следы. У «партизанской пихты» человек этот тоже свернул вправо и, обогнув помеченную на карте сосну, сбежал в овраг. Он шел тем же маршрутом, какой Савватей начертил для охотников.
— Видишь, видишь, туда же идет, прохвост, — забеспокоился Литвинов. — Сугубо глупо было выезжать ночью, надо бы с вечера. — Он с азартом оглядывался вокруг и свою замечательную двустволку-«тулку», подаренную ему украинскими организациями в день завершения восстановительных работ на Днепрогэсе, нес уже в руках. — Гляди: по следу мальчишка, сопляк. Подстрелить ничего не подстрелит, а всю птицу распугает... Вот не повезло!
Овражек, на дне которого кое-где в бочажках сохранялась вода, вывел охотников к указанной на карте небольшой котловине, со всех сторон поросшей лесом. Посреди котловины они увидели деревянную оградку.
За ней возвышался непонятный металлический предмет. Все это издали походило на могилу. Коренастые, широко разросшиеся ивы осеняли ее ярко-зелеными космами. Возле стояла женщина в темном. Держа ружье в руках, она настороженно смотрела в сторону приближавшихся охотников. Те тоже остановились. Разглядев их, женщина бросила ремень ружья на плечо, широким, мужским шагом пересекла котловину и ушла в противоположную сторону.
— Ее следы? — Надточиев был поражен этой встречей.
Литвинов, прищурившись, смотрел вслед быстро удалявшейся темной фигуре:
— Глафира.
Они миновали поляну. Под ивами, с которых даже в безветрие тек лист, действительно оказалась могила. На продолговатом холмике лежал судовой якорь. К толстому железному стержню была прикреплена начищенная до блеска медная дощечка. На ней безыскусно выгравированы контуры первого советского герба, буквы «РСФСР» и надпись: «Здесь покоятся славные партизаны тт. Прохоров Терентий, Болоцких Федор и их боевой командир Седых Александр Савватеич, погибшие от озверелой руки колчаковцев 18 ноября 1919 года».
Руки охотников как-то сами потянулись к шапкам. Обнажив головы, они молча стояли у таежной могилы. Самое удивительное было, что тут, в глуши, далеко от жилых мест и проезжих дорог, все сохранялось в отличном состоянии. Якорь был выворонен черной блестящей краской, дощечка сверкала. Холмик был обметен, и на нем лежала ветка калины с сочными рубиновыми ягодами.
— Кто ж тут за всем этим ходит?
— Ну, конечно, Глафира, — задумчиво ответил Литвинов. — Она ж вдова Александра. Мне о нем Седых рассказывал: пароходный механик, он колчаковский транспорт на пороге Буйном стукнул. Всех пустил ко дну, сам выплыл. Партизанил потом, да кто-то их предал. Вот лежат герои...
Позабыв об охоте, они присели на скамеечку, вкопанную возле оградки. Славное прошлое пустынного этого края, где страсти революции бродили не менее круто, чем в больших промышленных городах, подступило к ним. Литвинов вспомнил, как старосибирский археолог со странной фамилией шумел у него в кабинете, выпрашивая водолазный бот, чтобы поискать возле порога Буйный остатки старинных судов. Он тоже рассказывал о гибели транспорта «Император Александр», потопленного партизанами. Говорил он что-то и об этой могиле и сокрушался, что она попадет в зону, затопления. Все это теперь связывалось одно с другим, и стало еще более понятным, почему Иннокентий Седых так яростно боролся за эти земли, почему Глафира когда-то радушно привечавшая гидростроителей, теперь молча уходит из избы, сто́ит Литвинову появиться на пороге дома, почему она за это лето совершенно извелась, почему не поехала с остальными в Ново-Кряжово, а обитает на пасеке. Может быть, и Савватей, старый чертяка, не зря наметил им путь через эту котловину. Может, он хотел молчаливо напомнить начальнику строительства, какое еще горе готовит он его семье...