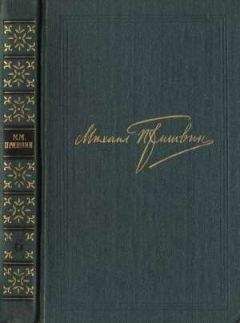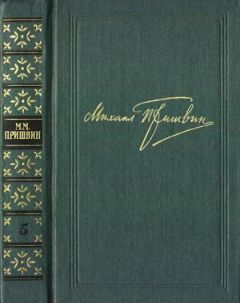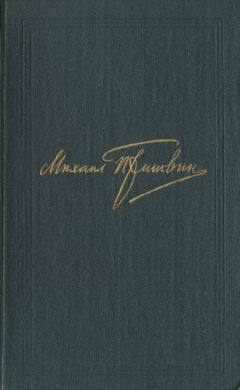Михаил Пришвин - Глаза земли. Корабельная чаща
Конечно, молодые люди тоже понемногу старели, и многие вспоминали потом слова отцов и дедов своих, но вспоминали все реже и реже.
И так, мало-помалу все задремало в суземе. Вот отчего, может быть, и чудится в каждом великом суземе при первом взгляде на море лесов: кажется, будто когда-то сам тоже вышел отсюда и здесь где-то свое самое дорогое и задушевное забыл.
И тянет туда снова пойти, поискать забытое.
Приходит новый человек в Корабельную Чащу — и все ему дивно кругом и кажется: вот он когда-то давно тут был и что-то забыл, а теперь все нашел и будет жить по-новому. Даже и слова вспомнит старинные: «Не гонитесь поодиночке за счастьем, а стойте дружно за правду».
Вспомнит, обрадуется и тут же, в тепле своего огонька, забывается и дремлет.
А Корабельная Чаща стоит и стоит.
И каждый новый, кто приходит сюда, непременно, взглянув на нее, что-то вспомнит свое прекрасное и через короткое время тут же все забывает.
Об этом поет тетерев на заре, ручьи — все об этом: чудесно в природе!
У Мануйлы были в памяти такие тропочки, пробитые оленями, и такие особенные свои затесы на деревьях, что он мог ходить по сузему много скорей, чем все ходят в суземе до общей тропе. Ему бы только хлеб за спиной в мешке, а ветер, и холод, и зверь ему были не страшны.
Теперь ему казалось, будто идет он совсем каким-то новым путем и к чему-то еще небывалому, а когда встречал свои же собственные затесы и замеченные оленьи тропочки, то сам себя спрашивал:
— Как же это я тогда, еще глупый, не видя ничего впереди, мог верно замечать свой будущий путь?
И, очнувшись, сам себе улыбался, как маленькому, и повторял сам себе, как ребенку:
— Вот оно что!
В том смысле скорей всего он повторял эти слова, что, как бывало, на своем путике, дедовские приметы складывались с чем-нибудь своим, замеченным только сейчас и небывалым. Так радостно было себя самого новым человеком находить в заветах отцов, что он всегда дивился и говорил сам себе, как ребенку:
— Вот оно что!
Теперь было тоже так: шел он к чему-то совсем новому и небывалому, а свои же заметки были все старые, о чем-то очень далеком, и как будто в прошлом он был совсем другим человеком.
Как бы там ни было, но этими своими заметками, затесами и оленьими тропками под сильным дождем и в буре он пришел к реке в то самое время, когда дети потеряли свою звезду и с ней выпустили из-под ног тропу человеческую.
По знакомым кладочкам он перешел речку, поднялся к прудику, где жили вьюн и карась, поднялся еще повыше, к избушке, окруженной березками.
В темноте, даже не высекая огня, он нашел в печном челе лучинки и спички, оставленные, как полагается на севере, последним, кто здесь ночевал, для того неизвестного, кто придет после него.
Тут были и сухие дрова заготовлены все для неизвестного, и теперь он, сам неизвестный, пришел и зажигает дрова, и добро того человека обращается в огонь для другого, и он, голый, развесив мокрую одежду, обогревается.
Хорошо на душе! И кажется, откуда-то слышится голос другого хорошего человека:
— Это я оставил тебе после себя пучок сухих лучинок и спички. Я же там, возле прудика, срубил тебе беседку. Теперь возле лавочки выросли березки.
Черный дым валит из чела, поднимается вверх и там останавливается, и мало-помалу избушка наполняется плотным дымом сверху все ниже и ниже.
Когда дым спускается так низко, что черное небо его висит над самой головой голого человека и еще бы немного — и он в нем задохнется, голый человек с распаренным телом снимает одежду и, укрываясь ею, ложится на лавку против печного чела.
Черное небо теперь больше не низится, нет больше и пламени, но раскаленный камень глядит на человека большим красным глазом, и от него дышит тепло, и человек тепло этого камня принимает себе, как добро.
Тогда кажется на земле все так просто.
Никакого другого и нет добра на земле, как что один человек сделал для неизвестного друга, и этот, благодарный, принимает и завтра тем же самым отблагодарит какого-то другого, ему не известного.
Человеку пожилому трудно сразу заснуть, да и не хочется. Черным теплым одеялом висит над собой дым, а глазам никак не хочется сомкнуться, — до того привлекает темно-красное пятно в темноте и великое дыхание добра.
Может быть, и покажется иному человеку из большого города, что он там где-то, в большом городе, блуждал и тут, спасенный рукою другого у этого огня, нашел свой дом, и ему бы захотелось вернуть человека к этому добру первоначальному…
Мануйло не закидывался такими мыслями, он глядел на огонь, и жизнь в большом городе глядела на него тем же огнем добра человеческого: этот огонь ему представлялся огромным костром, и на нем, как в большой кузнице, железо от руки человека переходило в добро.
И если бы ему показать то, от чего мы страдаем в большом городе и от чего нас иногда тянет к огню первобытному, он бы очень удивился, но, скоро вспомнив, как он радовался сухим лучинкам и спичкам в курной избе, сказал бы: «Вон оно еще когда началось!»
Спать в охотничьей избушке — это почти что спать на воздухе: все слышно, и сон, конечно, сном идет, а что слышится — рядом идет, и понятно: то сон, а то жизнь.
Были крики, были стоны в лесу, и одно время было совершенно так, будто ребеночек звал маму, а в ответ ревели медведи. И до того было явственно, что, ночуй человек впервые в суземе, он бы неминуемо подумал — ему скорей надо вставать, искать младенца в лесу и биться с медведями.
Но все это, как привычное для Мануйлы, проходило рядом с чем-то другим. Когда же буря начала стихать, Мануйло и этого не упускал в своем сне. После полуночи и ближе к рассвету лес передал свой голос реке.
Этот переход от голоса леса к голосу реки для спящего человека был все равно, как спал бы он на колючих и подвижных вершинах темного леса и вдруг улегся на светлое, покойно-ленивое летнее облако. И слышно оттуда, как в тихом лесу люди перекликаются своими голосами и как река внизу с кем-то переговаривается на стороне человека.
До того явственно отделялись слова человека, что Мануйло вскочил, оделся, взял ружье, вышел.
Заря занималась, река отвечала заре, а по черным кладочкам реку переходили знакомые Мануйле мальчик с длинным ружьем и за ним девочка со складной палаткой.
Но возврата нам нету, и дом наш не у костра в заповедном лесу, не позади, а весь — впереди.
Глава тридцать девятая
Земля под Корабельной Чащей не стояла плоским — полом, а катилась зеленовато-белыми, похожими на лунный свет увалами. На ходу эти увалы оленьего моха для ног были почти незаметны, но глазам казалось, будто перед тобой одна в одну переходят волны лунного света. Смотришь на эти увалы, и тебя тоже тянет, идти, куда они сами катятся. Оттого каждый незнакомый с местностью приходит этими увалами непременно к Звонкой сече по открытой на всю даль Третьей горе.
Тут кто-то жил в незапамятные времена, и, наверно, это он для своей избушки срубил какой-нибудь десяток деревьев.
Как это постоянно бывает в суземе, на месте срубленных деревьев-пионеров выросли березы и своим березовым шепотом о делах человеческих стали привлекать сюда новых гостей, вольных сторожей Корабельной Чащи.
Так повелось в области Коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на Звонкую сечу и там жил. Та первоначальная избушка на Звонкой сече, конечно, с тех далеких времен истлела, но каждый новый сторож подновлял ее для себя, и она оставалась и дожила до нашего времени, сохраняя свою обычную форму курной охотничьей избы.
Ни одного прежнего дерева, наверно, не оставалось в этой избе, но после нового сторожа прибывало на смену истлевшим несколько новых деревьев, а на поляне вырастало несколько новых берез.
Лавочка была возле избушки, и если сесть на нее, то как раз перед глазами то окошко с Третьей горы, откуда синими грядами, голубея, переходит лесная даль в голубой туман.
Вся поляна между огромными соснами была похожа на донышко лесного ведра, открытого к небу.
Свет великий, могучий, огромный, непереносимый для растений, выросших в тени, охватывал всю Сечу и вызывал к жизни светолюбивые травы.
Только одна-единственная из теневыносливых растений елка стояла на середине поляны.
Сколько же вынесла борьбы сама с собой эта елка, чтобы все свои клеточки, приготовленные для борьбы с тенью, перестроить на клеточки, способные принять новый великий свет.
Помогал ли этой елочке сколько-нибудь человек в борьбе ее за правильную форму, или она-то как раз и пробудила в древнем человеке создать свое стремление к нравственной форме, называемое у нас правдой?
Кто знает?
Теми ли словами, как мы, но каждый простой человек, сидевший на лавочке у избушки, против елки необычайно правильной формы, как-нибудь доходил же до таких слов: «Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, а гонитесь дружно за правдой».