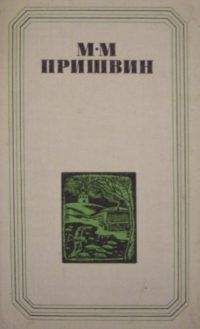Михаил Пришвин - Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща
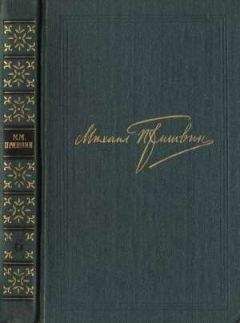
Обзор книги Михаил Пришвин - Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща
Михаил Михайлович Пришвин
Собрание сочинений в восьми томах
Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща
Осударева дорога*
От автора
«Осударева дорога» написана по материалам, освещенным личными переживаниями автора. Не скрою от читателя, что опыт сплетения истории, автобиографии и современного строительства для меня был нелегок.
В повести я хочу показать рождение нового сознания русского человека через изображение души крестьянского мальчика – помора.
Если человек прожил долгую жизнь и ему все еще хочется жить, то прошлое складывается в его душе неминуемо как роман или сказка. Столько есть на свете таких людей, что жизнь, пережитая в них, ищет себе выхода, и они говорят о себе:
– Если бы мне свою жизнь пересказать, то это был бы роман замечательный!
Я принадлежу сейчас к этим людям, и мне всегда кажется так, что если я о себе рассказываю, то это не есть простодушное удовольствие показать себя самого людям, а действительно мой лучший роман или сказка. Больше! Мне кажется, в этом деле освобождения себя от пережитого есть не только поэзия, но и еще что-то больше поэзии…
Всегда я понимал при чтении книг, что автор и есть настоящий источник его героев, но как это делается, что он забывает себя и превращается в кого только ему захочется, я и до сих пор понять вполне хорошо не могу.
Не раз удавалось мне описывать неплохо собак и разных животных. Разбираясь в условиях происхождения образа каждого положительного героя своего среди животных, я находил, что сам я увлекался, влюблялся, забывал о себе, и героя своего любил временно больше себя. По-моему, вот это «больше» и превращается в положительного героя. И то же, наверно, так и во всяком труде: всякая новая небывалая вещь создается, когда творец забывает о себе и входит в нее. О героях же отрицательных беспокоиться нечего: они сами непременно являются, если кого-нибудь любишь больше себя. Такова моя домашняя теория.
Раз было на моих глазах: по тонкому, запорошенному первым снегом льду пробежала осторожно гонная лисица, а через несколько минут на этот след налетел безумный выжлец. Лисица осторожно, по-лисьему прошла тонким льдом, а грузный костромич провалился среди озера. Лед на краях провала обламывался под его лапами, и вылезть ему было невозможно: лучший гонец в нашей округе был обречен на гибель в гонный день первой великолепной пороши.
Но прибежал его хозяин и, увидев своего друга в таком положении, быстро изорвал свою рубашку, связал веревку, сделал петлю, дополз на четвереньках по льду до собаки, накинул петлю и вытащил. Так охотник «вышел из себя», чтобы спасти своего выжлеца. Но спасенный выжлец, тоже не помня себя, помчался за той же лисой. Охотник без рубахи, изорванной на веревку, в одном ватнике, перехватывая лису с круга на круг, наконец встретился с ней и убил.
Мелькнет ли когда-нибудь даме, с горжеткой из этой лисицы, догадка об истинной цене ее наряда?
Этот охотник любил свою собаку и всю охотничью жизнь больше себя. И вот из этого-то самого «больше», по-моему, и должны создаваться положительные герои.
И мой герой в этой повести, мальчик Зуек, должен выйти из того самого, что больше меня, и в то же самое время присутствовать в моем чувстве жизни как возможность.
Так тоже спящая почка иного растения много лет дремлет и остается почкой. Но при хороших условиях почка «выходит из себя» и обращается в зеленый росток.
Это моя домашняя теория творчества, и я не знаю, почему укрывать ее от читателя, почему не пригласить его к участию в творчестве моей сказки-были, или, назовем, исторической повести.
Из себя самого я буду выводить Зуйка и в то же время буду смотреть туда; на хорошо знакомый мне берег, где поморы ловят рыбу сетями. Чайки-зуйки носятся там, как снег на ветру, и мальчики-зуйки всюду снуют, и среди них мой Зуек. Думаю о себе, а гляжу на него. Думаю о нем – и себя самого раскрываю.
С самого раннего детства мой внутренний мир разделялся надвое: один мир – это все, что мне самому хочется, другой мир, который больше меня, больше того, что мне самому хочется и что для меня выступает как «надо»: надо и надо, а не то, что я сам хочу. Очень рано это самое «надо» пробудилось во мне как требование матери моей: чего-то я сам хочу и что-то требует мать.
С этой далекой горы моего прошлого и текут все родники моей нынешней жизни. Темной стороной представляется это мое прошлое, и мне все хочется при свете яркого дня современности туда заглянуть и там все понять.
Очень давно я стал так понимать и поэзию, что это луч нашего дня, свет современности, брошенный на то отдаленное прошлое.
Пусть очень многое в нашей жизни теперь умело записывается и складывается в архивы и книгохранилища. Очень многое тоже и так остается и постепенно погружается в темное прошлое.
Бывает, однако, такой яркий день современности, что из него виднеется самое отдаленное прошлое, уже многими забытое, а для самых молодых и совершенно неведомое.
И вот в этом-то свете современности рождается сказка, и старые люди, свидетели забытого новым поколением, начинают сказывать о том, что было когда-то, в некотором царстве, в некотором государстве, при каком-то царе Горохе.
Было мне лет тридцать, когда я отправился в тот самый край, где мои предки-старообрядцы боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое «государство» – известную Выгорецию. Мне до смерти захотелось подышать тем воздухом народной жизни, где не было жестокости крепостного права и где в дебрях тайги, наверно и до сих пор, сохранились сказания о былых героических временах простого русского народа.
Действительность оказалась больше моих замыслов, больше моей мечты, больше меня самого. Мне было, как если бы человеку взрослому вернулось бы его детство и он, сохраняя где-то вдали в запасе нажитой свой разум и образование, восхищенно стал бы отдаваться природным детским силам доверчивости и особенному, проникновенному вниманию к подробностям жизни природы и человека.
Я родился с верой в какой-то лучший мир, чем где я живу, в какую-то страну, лучшую, чем наша, с уверенностью, что если сильно захотеть, то ее можно открыть всем, и даже так, что долг каждого из нас открыть для всех эту свою страну.
Еще девяти лет я пробовал из гимназии убежать в эту страну, и не я один был такой, а одно время гимназисты массами бежали. После моей неудачной попытки вера моя не умерла, а попала в положение семени, переживающего в земле зиму, чтобы раскрыться весной.
Так вот и вышло, что девяти лет я бежал в какую-то чудесную страну, а ровно через двадцать лет открыл ее на Карельском острове озера Выг, и был уверен, и вел себя, как будто это была та самая страна, куда я в детстве бежал.
Как, бывает, влюбленному кажется, будто все люди в существе своем прекрасны и ему, влюбленному, даже злодеи желают добра, так и в моей стране детства, в этом краю непуганых птиц, все люди мне были хороши, и так много хороших в одном месте я никогда нигде не видал. Это не был самообман. Ведь я не был хищным колонизатором или мистификатором-миссионером, а искал у них только былин, сказок и песен.
Много они мне пели былин и сказывали всякой «досюльщины». Но всего интересней мне были остатки людей, боровшихся когда-то по-своему за свою веру с царями.
Среди этих людей трудней всего досталось мне добиться душевной беседы у «бегунов» или «скрытников». У большинства прежних борцов за веру их вера теперь перешла просто в быт, в строгость нравов сравнительно с бытом «новолюбцев». Но бегуны продолжали искренно верить, что антихрист уже овладел почти всей землей и спасаться от него можно только в бегах. Чтобы не искушаться соблазнами, не застревать в человеческом болоте, они считали для себя необходимым вечно менять место, вечно бежать и не давать себе отдыху. Только на короткие дни в случаях болезни или необходимости что-то свое открыть другу они позволяли себе останавливаться в великой тайне у «христолюбцев», имеющих в своих домах особые тайные светелки. Они берегли свое имя в великой тайне и на все вопросы о себе встречных людей отвечали:
– Мы странники божьи, ни грады, ни веси не имамы.
Вот, наверно, тогда еще пришла мне эта мысль, и до сих пор я ею живу, что истинный наш современник не тот, кто для себя потребляет достижения нового времени, а для кого современность открывает свет на свое прошлое.
В свете современности как понятны были мне эти люди, презирающие место своего пребывания и собирающие дух свой в пространстве. Мы сами, революционеры того времени, готовые идти на какие угодно страдания, чтобы только поднять дух своего народа, привести его в движение, дух, остановленный косностью царя и его чиновников, мы сами отчасти были похожи на бегунов: мы были странники в своем народе, мы не держались ни села родного, ни города, правда нам была дороже родного села.