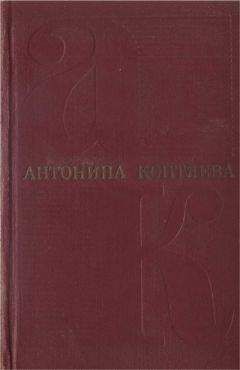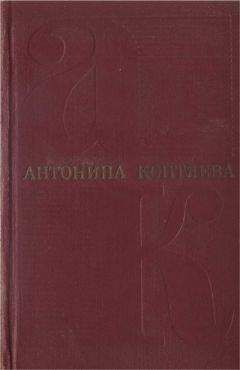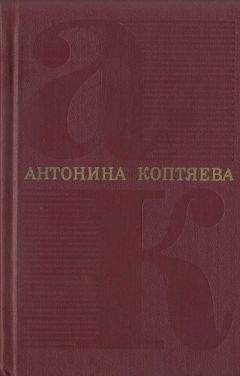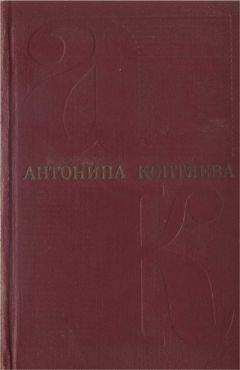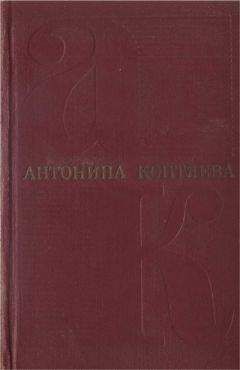Антонина Коптяева - Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк
— Надо бы мне наведаться в Тургай.
— Да ведь задача-то у нас одна, и здесь ты сейчас нужнее, — настаивал Кобозев. — Поднимешь башкир, тогда двинешься в Тургай.
Джангильдин сам учитывал всю сложность и трудность обстановки, поэтому не заставил долго себя уговаривать.
— Раз нужно — отправлюсь в Уфу. Владимир Ильич тоже решал бы вопрос, учитывая местные условия.
— Хватит о делах! Давайте ужинать, — позвала к столу Алевтина Ивановна.
Кобозев взял Цвиллинга под руку, кивнул на жену:
— Рассуди нас с ней, пожалуйста. Она хочет со всей детворой сопровождать меня при наступлении на Дутова. Где это видано?
— Петр Алексеевич, мы ведь договорились!
— Ничего мы не договорились. Я категорически против.
— Это вдвойне опасно для детей: они могут заболеть от одного испуга. И свяжете вы Петра Алексеевича по рукам и ногам, — с обычной прямолинейностью вмешался Коростелев.
Алевтина Ивановна улыбнулась, снисходительно и тепло глядя на мужчин, как смотрела иногда на упрямившихся малышей. Сами, дескать, не военные люди, а ее урезонивают. Да разве может она оставить Петра в минуту опасности?
И то, что она не возражала, а только улыбалась, убежденная в своей правоте, явно сожалея о нечуткости мужчин, заставило их умолкнуть. Все двинулись к столу, где стояли тарелки с нарезанным хлебом и солеными огурцами, а ординарец Кобозева принес из столовой полный таз вареной картошки в мундире и ведро хоть и жидковатых, но мясных щей.
— Значит, банкет в честь нашей первой общей победы и хорошо прошедшего съезда. Отлично! Хотя вина и водки не будет, — сказал Коростелев, уже оценив скромность кобозевского житья на колесах.
После ужина Цвиллинг заглянул во вторую половину вагона. Там, при тусклом свете фонаря, спали тепло укутанные малыши. Виднелись только светлые и темные их головенки.
«Вот дети революции, сны которых спугнуты грохотом перестрелок». Но они все-таки в семье, — подумал Цвиллинг, и ему до боли стало жаль своего сынишку и жену: постоянно в разлуке!
В кармане его солдатской гимнастерки лежало неоконченное письмо: «Леля, мальчик мой славный! Как часто я зову тебя во сне! Протягиваю к тебе руки: приди! Нежной теплой щечкой прижмись к моему лицу, а я буду целовать крохотные твои пальчики и рассказывать твои любимые сказки. Нет, не нужно старых сказок. Они такие скучные, и ты все их знаешь. Я расскажу тебе новую сказку…»
— Нравятся они вам? — Алевтина Ивановна, шевельнув занавеской, встала рядом, цветущая, стройная, само олицетворение женственности и материнства.
«Такие матери, не ожидая приказа, посылали и посылают детей служить родине», — подумал Цвиллинг и тихо сказал:
— Очень нравятся. Я смотрел на них и думал о своем сыне. Ему четыре года. Он маленький, хрупкий и не по летам развитый. Видимо, сказывается то, что мы с женой заняты нелегкой партийной работой и он редко видит нас. Такой малыш, а понимает, что нам трудно живется, и при встречах трогательно хлопочет — заботится о матери и обо мне.
— Видите: вы тоже его втянули в наше святое дело! Разве это не похоже на то, что вы идете в бой, закрывая собой ребенка, который всюду следует за вами? Вы обрекли его на борьбу со злом с первого дня рождения. Попробуйте сказать «нет»!
— Я никогда не говорю неправды.
— Значит, вы согласны со мной?
— Согласие не исключает тревогу и желание предостеречь вас от ненужного риска.
— Может быть, я плохая мать, но я верю в будущее и ради него ничего не оставляю в залог.
Цвиллинг промолчал, чувствуя бесполезность спора: тут было нечто недоступное ни логике, ни эмоциям убеждения.
Окна вагона, приспособленного для постоянного жилья, были затянуты бело-синим искрящимся льдом, пронизанным светом близкого вокзального фонаря. Искры на морозном затейливого рисунка витраже навевали удивительные сказки, но сильнее всякой фантазии была для Цвиллинга окружающая действительность: и этот дом-вагон рядом с боевым штабом на колесах, и кочевая семья, и весь необыкновенный семнадцатый год, засверкавший в небе истории звездой первой величины.
А рядом буднично гудели, шипели, постукивали колесами паровозы, напоминая о ближайших задачах трудной и жестокой борьбы.
41Справили свадьбу Харитины с Николаем Ведякиным. Шумная и богатая была свадьба. Зятя, полюбившегося Григорию Прохоровичу казачьей ухватистостью, сноровкой и рвением послужить войску, Шеломинцевы приняли к себе в дом.
— Все бегал вроде парнишка и вдруг открылся стоящим человеком. По мысли он мне ближе родных сыновей, — сказал старый казак жене, перед которой иногда по-своему изливал душу. — Мишка у нас хозяйственный, но в башке у него не разбери-поймешь. Ему каку-то отдельну республику нужно. Не большевиков, не царя, а конституцию. А что такое конституция? Она вроде и при царе была. Писали же чего-то в газетах… Однако ежели разобраться — баловство никчемно. У Нестора вовсе в голове пустота. Этому одна конституция нужна — с Ефросиньей обниматься. О казачьем войске, о круге у него заботы нету. А вот Николай совсем другой коленкор!
Григорий Прохорович прислушался к злобному посвисту ветра, к сухому шороху снега, будто лопатой его кидали в стекла окон.
— Само дело пить да опохмеляться: никуда ходу нет. Принеси-ка, мать, арбузиков соленых да рассольцу захвати.
Поглядел вслед жене: широкая, точно дверь, спина, с неохватных бедер струятся сборки тяжелой юбки. Кривя губы, посетовал про себя:
«Вот ходит, как ломова лошадь, и молчит. Не располагат к душевности. Только на народе бойка. И Харитинка в нее: при мне тихоня, а шасть за порог — откуда что берется!»
А Харитинка уже тут как тут — легка на помине, курносенькая, белозубая, светлые, как у Нестора, волосы младенчески пушатся на висках, губы полураскрыты, нацелованные, аж припухли, и шею кутает, но у подбородка синяк — след поцелуя все равно виден. Ничего не скажешь, молодожены!
Есаул вспомнил свою женитьбу: как, заплаканный, в кровоподтеках, стоял под венцом, вздохнул натужно, не выдохнув застарелую обиду. Упершись локтями в кухонный стол, покрытый клейкой еще новенькой клеенкой, он вытянул ноги, обтянутые поверх шаровар толстыми шерстяными чулками, ссутулился и так исподлобья зыркнул на Харитину, что она, пробегая через кухню, замерла.
— Чего ты носишься, инда сквозняк от тебя?
— Николаше побриться… водички горячей…
— Ну, бери. Чего стала? Ведь ждет, поди!.. — А у самого глаза подобрели: «Славный будет казак. Уже в поход ладится. В праздник подтянут, по форме одет, в будний день на работу лют и молодайку свою крепко приголубливат… Ишь укуталась, мила дочь!» — Нестора кликни. Где он?
— С Фросей на базу. Скотину поят из колодца. К прорубям-то на протоке не подступиться: метет, аж деревьев и плетней не видно. Пробился через сугробы кормельщик за хлебом, сказывал: если ишо дня три пробуранит эдак, то корма скоту в кардах не хватит.
— Сам знаю. Ужо утихнет буран — поедете на быках по сено. Иди к Николаю-то да Нестора позови.
Принесенный Домной Лукьяновной арбуз, холодный, приятно освежающий солоноватой сладостью, Шеломинцев ел жадно, вычерпывая деревянной ложкой красную мякоть. Крепко вытерев губы и усы скомканным полотенцем, он уже ласковее уставился на вошедшего Нестора, краснолицего от морозного ветра. Его послушно-почтительное выражение тронуло отцовское сердце. Нет, хорош сын! И собой пригожий, и джигит лихой. Войдет в разум — будет войсковому атаману опорой.
— Садись! Чай, запарился, таская бадью?
— Колодец вычерпали до дна. Пока наберется вода, мешками с сеном накрыли сруб, чтобы не застыла.
— Небось не застынет. Меня другое заботит: не вижу я что-то твоих сборов на войскову службу. Михайло уже уехал. Николай коня подковал, вечор всю казачью справу из сундука с Харитиной вынимали, просмотрели. Тоже, поди, неохота от молодой женушки в поход идти.
— На кого идти-то, папаня? — зачужавшим голосом спросил Нестор, отводя глаза в сторону.
— На кого следует. Когда трубач сбор протрубил, ты разве на плацу не был?
— Был.
— Речь станичного атамана слушал?
— Слушал.
— Бумагу-приказ по войску — при тебе читали?
— При мне.
— Так какого же черта!.. — Узловатый кулак папани грохнул по столу так, что слетели на пол мокрые арбузные корки. — Чего ты из себя строишь? Мне ли тебя агитировать? «На кого идти»! Будто не знаешь, с кем мы сегодня в разладе?
— Так неужели мы взаправду начнем воевать со своими, русскими?
— С какого боку они тебе свои? Да, по мне, они хуже всяких немцев, коли мать-Россию им продали! Я этих русских большевиков, как шашлык, на пику буду нанизывать да воронам кидать. А ты — мой сын, казак прирожденный, от меня отставать не должон. Не мы их, так они нас, казаков, с лица земли сотрут.