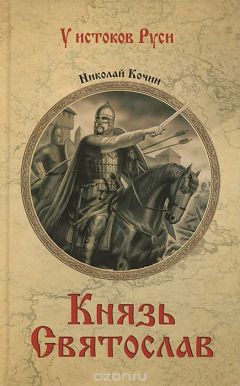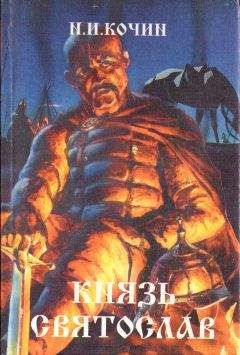Николай Кочин - Девки
— Здорово сочинил, — сказал он, — пожалуй, хлеще Пушкина Александра, хотя Пушкин еще при старом режиме за нашу шатию грудью стоял и не был оппортунистом. [Шатия — компания, группа.]
Санькина статья подняла на ноги милицию. Дело заварилось. Впервые привлекали на селе хулиганов за старинные способы опозоривания женщин.
Прямо из волости пришел Санька к Марье в дом. Василий чинил хомут в кути. Старуха латала одежду. Марья стирала белье в корыте, Все нелюдимо и вопросительно на Саньку взглянули. Он молча подошел к люльке. Разобнажившись в пеленках, копошилось крохотное тельце ребенка. Скрючившись, он с наслаждением сосал палец своей ноги.
— Сын, — сказал Санька и взял ребенка на руки, поднял его над головой, — пионер, значит, будет...
Сын глядел на него недоуменно и строго. Он выпустил изо рта пузырь и невнятно произнес: «Угу!»
— Здоров. Уже гулится. Говорить скоро будет, — сказал Санька и вытер ему рот.
— Ну, не скоро еще, — ответила Марья, — они говорят сперва самое понятное — «мама» и «папа» и уж потом, что труднее...
— Собирайся, Маша, — сказал Санька. — Ну их к черту всех, кто посмеет над тобой глумиться, как при старом режиме. Жить вместе будем.
— Без венца? — спросил Василий, расправляя бороду. Лицо его светилось.
— А как же? — ответила дочь. — Была один раз под венцом — не помогло. Значит, не в нем сила.
— Не спорь! — сказала мужу старуха. — Нынче молодые больше нас знают.
Все засуетились, стали собирать Марью. Санька взял на руки запеленатого сына и понес его улицей, а Марья шла рядом и смело глядела на мир и вся сияла.
Это был первый случай в селе Немытая Поляна, когда опозоренную женщину вводил в дом парень гордо, на виду у всех, без венца и без соблюдения всякого рода отстоявшейся в веках и окостеневшей обрядности.
Глава четырнадцатая
От Анныча получено было хорошее письмо. Он сообщал артельщикам, что дело, наконец, увенчалось полным успехом. И точно назначал время своего приезда. Добавлял, что по пути заедет со станции к своим на лесосеку и там заночует.
Узнав об этом, Санька не стерпел, пошел в лес к лесорубам, чтобы там подготовить встречу с Аннычем. Набрал ворох газет и книг и утром, когда еще звезды на небе не угасли, вышел из дому.
Крутила поземка. Ветер рвал и метал, заворачивал соломенные поветы, бросался в ставни, гнул старую ветлу.
Санька закутал голову солдатским башлыком и смело пошел полем к лесу. Ветер между тем усиливался, час от часу крепчал, задувал дорогу. Вскоре все слилось у Саньки перед глазами в белесой мути: перелески, серые деревни на увалах, дороги, мельницы, ометы, овины. Идти было тяжело. Ноги вязли по колено. Ветер бил встреч. Санька остановился и подставил ему спину.
Чувство одиночества охватило его. Был уже полдень, но солнышко неизвестно с какой стороны светило. Метель пуще бесновалась, все кипело, как в котле. Над ним летели снежные облака, клочья соломы, по насту ползли ручьи рассыпчатого снега. И небо и поле — все было одного цвета.
Санька стал вязнуть еще больше, наконец, провалился по пояс. Начал карабкаться, но еще глубже тонул в снегу. Через несколько минут его задуло совсем. Чтобы не задохнуться, он орудовал руками, отгребая от головы снег. А сверху все валило, все валило.
«Вот и нарождались перед лицом стихии разные суеверия, — подумал Санька, анализируя свои переживания. — В поле бес нас водит, видно, да крутит по сторонам».
Пришел на ум дед Севастьян, как он ходил в Иерусалим в молодости. Вышли из России сто человек, а вернулись четверо. Когда шли в Иерусалим, то умирали в дороге, вынимали ладонку с русской землей и лицо покойнику ею посыпали. И умиралось легче.
«Хоть и глупо, но умру на своей земле», — решил Санька. Но жажда бессмертия так охватила его, что он начал неистово карабкаться. И проваливался все ниже и ниже. Наконец он провалился куда-то совсем низко, хотя там стало просторнее. Он прободал толщу снега и оказался в овраге. Совсем сбился с пути. Оказывается, попал в трубу летней землянки ночных пастухов. Уже было тихо, как в погребе. И небо яснее ребячьих глаз. Он выбрался на дорогу и бодро пошел дальше. Рубашка взмокла на нем.
«Обсушусь в ходьбе», — решил он и двинулся в направлении Мокрых Выселок.
Потянулся лес, редкодеревье. Дорога стала укатаннее. Из-под осин и берез выглядывали голые метелки орешника, калины, жимолости, шиповника, чернобыла, в низинах — тальника. Лесу этому никто не знал конца краю. Где-то шел он вдоль Оки, переходил в Мещерские трущобы. «Идет к Рязани да к Владимиру, к богомазам», — говорили местные жители.
Потянулась чистая березовая роща, белые ее стволы, как свечи, тонули в сугробах. Кое-где попадались ягодные деревья: рябина и черемуха. Царила такая мертвая тишина кругом, что скрип снега под ногой раздавался эхом в роще. Ни людей, ни животных, ни птиц. Только заячьи следы но насту. Затем пошел дубняк, осина, сосна, словом, чернолесье. Лес становился все гуще, все непроходимее, и вскоре Санька вступил в дремучий бор. Высоченные корабельные сосны уходили вершинами в самое небо. А внизу, у стволов, было просторно, снежно. Только на буреломах видел Санька: наваленные друг на друга сосны подымали над снегом свои вывороченные корневища. Целыми полосами лежали эти огромные трупы деревьев. Они сохранили наружный здоровый вид. но были гнилые внутри. Не раз, бродя по лесам летом и вскакивая на ствол, Санька проваливался через него на землю, обдаваемый гнилой пылью. Дикие заросли! Тут уж не продраться, тут, точно засека, через которую, как известно, даже орды татар не могли пройти в древней Руси.
Вот из этих мест кулугуры, промышляющие извозным промыслом, привозили в Немытую Поляну но зимам добротные дрова. И сами кулугуры были замшелые, кряжистые, говорили на кондовом, окающем наречии, отрывисто и сурово:
— Хочешь бери, хочешь нет, три рубля за воз. Цена сходная. Будьте не в сумлении. Самолучшие дрова, — и хоть разбейся здесь на месте, не уступит, но и лишнего не запросит.
Теперь уже начинались непролазные дебри, смешанный лес. Санька знал, как непередаваемо красивы были эти дебри летом. Неописуемое диво, когда весело улыбаются развесистые, белоствольные, все в ярчайшей зелени, милые сердцу, до боли родные русские березы; и кудрявятся сладко-душистые, стройные, благодетельницы деревенского народа мягко-зеленые липы: гордо парят над ними высокие, могучие, в несколько обхватов толщины у корня, коренастые, стальной крепости дубы. Летом все это жило бы, трепетало бы, буйно цвело бы, благоухало бы. А сейчас все сковано, застыло, омертвело. Идешь, идешь, запрокидываешь голову вверх и только одно видишь — холодно-зеленую хвою. Внизу же бесконечные ватаги высоченных, стройных, прямых, как свечи, стволов. И сколько лесу, ни в какой земле такого богатства нету. И много лет они стоят — седые, мрачные, здоровенные сосны. Молчание. Снежинки крутятся и робко, тихо ложатся на сугроб. Солнышка не видно. Под ногами только две колеи накатанной лесорубами дороги. Ладно еще — стихла метель. А то набрался бы страху.
Жутко в лесу в бурю. Внизу тишина, а вверху все бушует, все полно беспокойства, все беснуется. Деревья качаются, стонут и вершинами шумят, стволы скрипят, сучьи трутся друг о друга, трещат и ломаются. Со страхом человек прислушивается к этим звукам, сжимается его сердце, хочется скорее на обжитое место.
Вдруг где-то ухнуло. Где-то прошумело. Зверь отдаленно закричал, и все стихло. Саньке стало страшно, хоть и припоминал он старательно все книжные объяснения происхождения страхов в лесу. Хорошо в эти объяснения верить за столом среди родных, в теплой избе, с книгой в руке. А в лесу попробуй. Санька испытал чувство древнего человека, и сам тому подивился. Голоса зверей звучат в лесу таинственно и страшно, недаром народ населил лес огромным количеством таинственной силы.
Долго еще шел он, наконец вышел на поляну: увидел скопище изб. На каждой повети снег. Это была лесная деревенька — Мокрые Выселки. Стояла на отшибе, хоронилась от всего света.
Издали эта деревня казалась кучей гнилой соломы. Улицу различил он только тогда, когда вошел в деревню. Колодец посредине улицы с прогнившим срубом. Деревянная часовенка с медной иконкой. Серые амбары под соломенными гнилыми крышами. Почернелые избы. Некоторые совсем ушли в землю окнами, покривились, покосились, похожие на собачьи конуры. Многие избы без сенцов, а если и есть сенцы, то у них нет дверей. Повети сползли, обнажая, как ребра, деревянные слеги каркаса. [Слега — толстая жердь, брус; слеги, положенные поперек стропил, служат основанием для кровли.] В некоторых местах крыши провалились, и на них сугробы с торчащими былинками прошлогодней полыни. В некоторых местах была дрань на крышах, она вся сгнила. [Дрань — то же, что и дранка: тонкие, узенькие дощечки для покрытия кровель.] Многие избы имели деревянные подпорки со всех сторон, как в сказке, стояли друг к другу то передом, то задом. Окна перекосились, заткнуты тряпками. В улице помет, солома. Гуляет корова с быком. На частоколе, утонувшем в сугробе, развешаны портянки и портки. Некоторые избы со всех сторон укутаны соломой, которая и окна почти загородила от света. В огородах от ветра шатаются подсолнечные стебли. В улице ни души. Стужа загнала людей на печи. Все избы топятся. Лес рядом, рукой подать, на задах, живут тепло, от жары ребро за ребро задевает, а обстроиться привычки нет. Здесь жили староверы, народ хитрый, справный, ханжи. При комбедах приучились люто притворяться, принищиваться. Украдкой друг от друга ели и одежду копили. Солома здесь везде, она и на крыльце, и на дороге ко двору, войди в избу — и там вместо половиков солома. Соломенными занавесками закрывают окна, на соломе родятся и умирают.