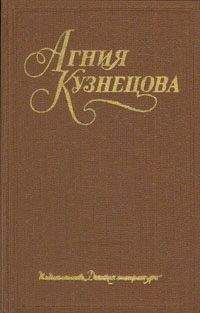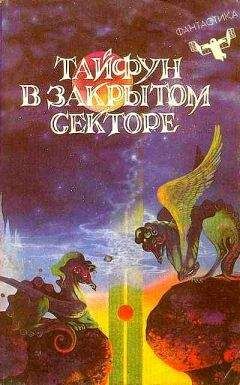Зултурган — трава степная - Бадмаев Алексей Балдуевич
Бергяс в это время лежал на широкой, с никелированными спинками, кровати под стеганым атласным одеялом. Кровать была завезена вместе с другой мебелью к новоселью из Царицына. Показавшаяся сначала удобной панцирная сетка Бергясу разонравилась. Осердясь на непривычное ложе, он велел нарезать досок по длине кровати и, уложив их поверх сетки, застлать кусками кошмы…
Убранство спальни не было богатым. С левой стороны стояла точно такая же кровать для Сяяхли, но поуже. Торцами между кроватями, будто соединяя их, был поставлен низенький диванчик, обитый желтым плюшем, а посредине комнаты небольшой столик, покрытый льняной скатертью. Пол был выкрашен в тон диванчику и скатерти, а когда кровати застилались — все в спальне становилось желтым, как луговина в цветущих одуванчиках. От порога в глубь комнаты, но не закрывая весь пол, пролег ковер светлого тона. Бергясу хотелось, чтобы убранство комнат у него оказалось таким же, как у зайсана Хемби. Но Сяяхля воспротивилась этому, резонно заявив, что всякий человек отличается от другого и обликом и голосом, а значит, и обычаи в доме должен соблюдать свои, какие приличествуют его воспитанию и положению в обществе…
— Дом по хозяину — привет гостям по достатку, — напомнила она пословицу. Бергяс не собирался с нею спорить на этот счет.
Но как далеко ушли те радостные дни! Две недели Бергяс уже не вставал с постели. Впервые за всю жизнь болезнь оказалась к нему такой неотступной. Нельзя сказать, чтобы и прежде всякие вольности с едой и питьем, небережливым отношением к себе так просто сходили ему с рук. Другой раз прихватит боль в правом боку или пояснице — хоть кричи. Но чтобы свалиться с ног и надолго…
Разгульная жизнь в молодости, когда елось и пилось без меры, обернулась ослаблением почек и печени. Теперь, выпив вроде и не так много, он мучился бессонницей, ходил по спальне, прижав грелку к боку… К этим временным болям прибавилось постоянное неприятное ощущение в груди слева. Часто кружилась голова.
Валяться в постели по целым дням для такого неугомонного по натуре человека, каким был староста, да еще в столь беспокойное время, казалось настоящей пыткой. Если раньше Бергяс очень разборчиво относился к гостям и тут же избавлялся от ненужного человека, сейчас он изнывал от скуки, радовался каждому захожему. Ему не вдруг, но захотелось приблизить к себе старика Онгаша, как перекати-поле слоняющегося по чужим дворам и напичканного всякой бывальщиной.
Бергяс сам себе удивлялся: пускал ли он когда-нибудь дальше прихожей этого растрепанного старика? Теперь извольте слышать приказ старосты: «Позовите Онгаша». И пока его разыскивали, Бергяс нетерпеливо перебирал четки, волновался: а вдруг и вовсе запропастился старик, изведешься от скуки! Окончив молитву, Бергяс похлопал в ладоши. Из соседней комнаты с вязаньем в руках вошла Сяяхля. Она была уже не молода, время оставило и на ее красоте свои отметины: мелкие морщины в уголках глаз врезались все глубже, пролегли две складочки между бровей, вытянулось и обострилось лицо!.. «Вот уж чьей красоте не виделось износу! — думал иногда Бергяс. И тут же гнал неприятную мысль прочь: — Нет, нет! И сейчас лицо жены достаточно свежо, а глаза неугасимы, как у девушки на выданье, фигура стройна, тело гибко! В белом платье с мелкими цветами по полю, она по-прежнему мила и желанна. А ведь ей через три года сравняется пятьдесят!»
— Сяяхля, я закончил молитву, — сказал Бергяс и приподнялся на локте. — Может, мы чего-нибудь перекусим?
Есть ему уже который день не хотелось. И поешь — не идет впрок! Это знали и муж, и жена. Просто в это время они обычно садились сумерничать. Как хотелось Бергясу: сбросить все хвори и возвратиться ко всему привычному!
Он так и сказал:
— Хочу встать и посидеть вместе с тобой за столом.
— Вставать нельзя! — предупредила Сяяхля. — Разве вы забыли наказ Богла-багши? Он приказал не вставать из постели целых три недели… Прошло лишь две.
— Сегодня я чувствую себя лучше, — соврал Бергяс. — И потом, знаешь: надоело!
Бергяс попытался опереться на другую руку.
Сяяхля приблизилась и опустила прохладную ладонь на лоб мужа, весь в бугристых морщинах. Если бы кто поднес в это время зеркало к глазам Бергяса, то он, наверное, в ужасе отшатнулся бы и зарылся лицом в подушки: исхудавший, желтый, морщинистый, он больше походил на обезьяну, чем на человека. И только великодушная Сяяхля могла каким-то образом перебарывать в себе ужас и отвращение к этому человеку, сделавшему ее своей вечной пленницей, превратившему в свою тень.
— Сейчас принесу еду и помогу вам подняться, — сказала она.
Вскоре Сяяхля принесла большую деревянную миску с дымящимся мясом, нарезанным большими кусками. Еще раз взглянув в глаза мужа, преисполненные покорности и ожидания, она вдруг придвинула стол к изголовью кровати и села рядом. Бергяс, хмурясь, принялся крошить себе мясо, вяло жевал.
— Какие там новости в хотоне? — спросил он, чтобы нарушить молчание.
— А-а, все то же! Бедствует народ, — Сяяхля отложила свой нож в сторону, вытерла губы передником. — Встретилась утром со снохой Окаджи… Помните, какая она была крепкая, ладная, смешливая… Сейчас — что тень, на ветру качается… Дети с голоду пухнут. Приношу им каждый день молока, да толку от банки молока на троих немного, видно, надо бы помочь еще чем-то, а коровы наши сейчас почти не доятся…
— И в степи нет корму, — вздохнул в тон ей Бергяс. Он хотел переменить разговор с Сяяхлей, которая в последнее время стала слишком жалостливой.
— Надо бы, Бергяс, помочь сородичам! — настоятельно заговорила Сяяхля. — В кибитках Окаджи, Азыда дети обессиленные лежат, и взрослые еле ноги переставляют.
— Не выйдет! — упрямо, с пробудившейся злобой отклонил просьбу жены староста. — Хватит того, что я оказался дураком в двадцать первом году! Полстада раздал, а чем отблагодарили? Слова-то какие для меня придумали: «Байн! [58] Нудрм» [59], — кричали на всех перекрестках! Когда нужно было ишполкома избирать, то сынков Окаджи и Азыда послали туда, а не главу рода! Пусть теперь они сами себя спасают от голода, если такие умные и хорошие! А плохой Бергяс и без них обойдется!
— Успокойтесь, вам нельзя так волноваться, — стараясь уговорить его, продолжала Сяяхля. — Все помнят о нашем добром участии. И это еще скажется, вот увидите. Вы могли умереть от сердечного приступа, но выжили. Людские молитвы спасли нас. Но помнят доброе и те, что там, наверху! — Сяяхля кивнула на потолок. — Бурхан помнит. О, хяэрхан, бурхан, багша!.. Избавьте моего мужа от страданий… Он добрый, он нужен людям, чтобы спасти свой род от голодной смерти…
Сяяхля опустилась на колени перед изображением будды.
— Ладно тебе, Сяяхля! — оборвал ее муж. — Все равно не разжалобишь! Сегодня я не в духе. Клятая печень замучила… Да ведь подумать только, о чем просишь: сами скоро ноги вытянем… Скота и половины не наберется против тех лет.
Сяяхля подхватилась на ноги. В глазах ее промелькнул гнев.
— Стен этих постыдитесь, если не совестно мне говорить неправду… Будто я не видела или забыть успела, как вы деньги и драгоценности пересчитывали при закрытых окнах!
Бергяс мог бы содержать в голодное время не один такой хотон. На поставках строевых коней в первые годы войны он разбогател, как никогда раньше. Русский друг Микола Жидко, когда отоварил свои капиталы, свел и приятеля-калмыка с нужными людьми, менявшими ассигнации на золото. То было хорошее время для Бергяса. Целый табун превращался в увесистый мешок желтого металла. Табун не спрячешь ни от своих, ни от чужих, а золотишко может лежать в укромном месте хоть сто лет! Сто властей переживет и однажды может снова превратиться в стадо коров, в новые дома, в возы с мукой и сахаром.
Попробовали голодранцы жить без богатых — не вышло! Сами себя морят голодом, есть-то нечего, а муку, крупу, мед, ситец отдают тем, кто приберег на черный день золотишко…