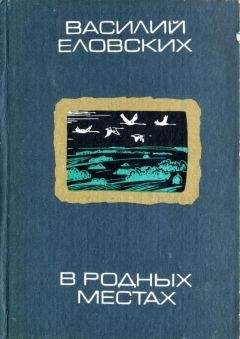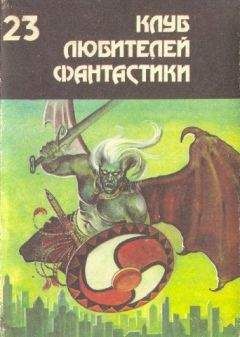Василий Еловских - Старинная шкатулка
— Мерзавец!
Это ругательство было адресовано Денисову. Калиев делал свое дело. Не в пример другим, Васильев считал прокурора толковым, дальновидным работником.
Ему казалось сейчас, что в Карашином оставаться больше нельзя, опасно: Калиев приедет дня через три, дня через два надо бежать, заготовив документы (в его распоряжении печать, бланки) и уложив в багаж самое необходимое. Он представил себе, как все это будет: никому ничего не сказав, уедет на райпотребсоюзовской машине в город, шофера отправит обратно («Буду на совещании. Приеду послезавтра, на попутной»), сядет в поезд дальнего следования и — поминай, как звали. А ехать куда — решит потом. «Почему потом, черт возьми?! Пока поездит в поездах. В мягких вагонах… Взять с собой побольше продуктов. Деньжонок хватит. В поездах всего безопаснее. Да-да! Именно в поездах. А дальше? А дальше видно будет…»
Вечер и ночь выдались снежными, вьюжными, грубо постукивали ставни, и Иван Михайлович часто вздрагивал, просыпаясь, ему чудилось, что это идут люди по его душу, и только на рассвете он заснул крепким, тяжелым сном человека, приговоренного к смерти. Проснувшись, почувствовал себя легко и удивился этой легкости; ночные кошмары уже казались чепухой, детским вздором, и Васильев неторопливо, с холодной обстоятельностью начал продумывать, что ему делать. Было жалко Надю. Он с первого же дня, как появился Денисов, почувствовал незнакомую ему прежде, какую-то особую — тоскливую, щемящую жалость к жене, будто подвел ее, наобещал горы златые, а преподнес что-то мерзкое.
А может, прокурор все же отступится, а Денисов только пугает его. Но бывший полицай скудоумен, неосторожен и, стремясь получить справку, наверняка пошлет третье или даже четвертое и пятое письмо. Он ни за что не стал бы высылать Денисову справку, и к этому его толкали три причины: он не хотел более тесно связывать себя с бывшим полицаем, приближать его к себе, а точнее, себя к нему, не хотел принимать на свою душу еще один грех (мало ли что может случиться, дамоклов меч все время над головой) и, кроме того, просто не хотел… Стать на одну ногу с таким субъектом — еще чего не хватало! «А нет ли тут купеческой спеси? Ай, нет!..» Сколь ни странно, главной опасностью теперь была Надя. И, сидя в кабинете, он думал, думал… И тут случилось непредвиденное. Позвонила Надя:
— Ваня! Мне что-то плохо. Живот очень болит. И рвало меня.
— Утром ты вроде бы не жаловалась.
— Да. А счас болит.
— Сходи к врачу. Сможешь? Или попросить, чтобы он пришел к тебе?
— Схожу. Что тут… два дома пройти. Я грелку к животу прикладываю. Тока не легчает. И чувствую, температура большая.
«Видимо, аппендицит. Грелка опасна». Он хотел сказать ей об этом, но она опередила его:
— Ты ишо не виделся с Калиевым?
— Нет. И не думаю.
— О, господи! Горе мне с тобой!
— Как мне надоели твои разговоры о Денисове. Пусть с ним разбираются в Новосибирске. У меня и без Денисова много забот. Думай-ка лучше о себе.
— Калиев хотел поговорить с тобой.
— Мы уже говорили с ним.
— А ты сказал, что нет.
— Что нет?! Я действительно не встречался с Калиевым. Мы по телефону говорили. Слушай, довольно об этом. В сотый раз тебе говорю: не лезь не в свое дело!
— Ну, ладно, ладно! Я полежу пока. Погрею и пройдет.
— Я сейчас поеду в Михайловку. К ночи вернусь.
В Михайловке ему нечего было делать. Но он поехал, злясь на жену и обманывая себя: «Я ничего не знаю. И у меня тоже побаливает живот…»
«Газик» шарахался из стороны в сторону, Васильев с неприязнью смотрел на заснеженную дорогу, на застывшую тайгу, на небритого шофера с грубым плебейским лицом, все было противно, и все казалось скучным, угрюмым. Машина часто застревала, и приходилось выходить и подталкивать ее. Наплывали злые раздумья: «Людей обманываешь и себя. Людей — понятно. А зачем себя?» Несколько минут он ехал с застывшим, как у покойника, лицом, с резко поджатыми губами.
— Стой!
— Что такое? — От испуга шофер резко повернул машину. — Э, черт! Ну, что такое?!
— Заворачивай обратно. Обратно, говорю!
Они приехали в Карашиное уже вечером, когда снова поднималась метелица, наверное, сотая за зиму. Дорогу закрывали снежные курганы, и была тьма, хоть глаз выколи.
Хирург был в отъезде. У Васильева тряслись от волнения губы; бегая как одержимый, упрашивая и угрожая, он поднял на ноги всех врачей. И операцию все же сделали.
Через неделю Рокотов сказал председателю райисполкома:
— Надо нам разобраться с Васильевым, который, как я подмечаю, начал крепко выпивать. Какой дурной пример для подчиненных. И ведь интеллигентный вроде бы человек…
— У него несчастье, Константин Константинович — чуть не погибла жена. Да, Надежда Петровна. У нее был аппендицит, болезнь, как известно, не опасная, если вовремя сделать операцию. Но в тот вечер хирурга не было. А фельдшер Увалов, заменявший его, по обыкновению налакался после работы. И оказалось, что оперировать некому. В Карашинской больнице вообще много всяких нарушений и неполадок.
— Где же был хирург?
— В леспромхозе. Договаривался насчет дров для больницы.
— Почему он, а не завхоз?
— Ну вот спросите… А с Васильевым я поговорю. И разговор у них пошел уже о другом.
6В воскресенье Васильев почти полдня просидел дома, у окошка, курил и смотрел на пустое снежное поле, отмечая про себя, что пустота эта по-своему успокаивает его. Мысли наплывали мрачные, не связные, хаотичные. У него всегда был строгий режим выходного дня: выбрасывал навоз из хлева и вывозил его на тачке в огород, подметал во дворе, помогал жене прибираться по дому, читал, — весь день в хлопотах. А сегодня ничего не хотелось делать, так бы и сидел, сидел, глядел… Видимо, таким вот образом, неприметно, исподволь наплывает на человека болезнь.
Перед ним мысленно то и дело возникала толстоносая, острогубая харя Денисова с наглыми глазами. Васильев знал, что тот не оставит его в покое, когда-нибудь да пакостно даст знать о себе. Он давно понял: страх не только принижает, но и обезоруживает, и старался внушить себе, что сам он тоже с характером, тоже что-то может…
Подумал не без злого веселья: дает ли ему что-нибудь раздвоенность, с которой он живет теперь? Духовно обогащает? Да уж какое там!.. Насторожен, опаслив, как затравленный волк. Конечно, все было бы по-другому, если бы он хоть в какой-то степени разделял взгляды нацистов и — это особенно важно — если бы имел сообщников. Но!..
Нет, куда-то не туда ведет его, надо думать о чем-то другом. О другом…
Интереснейший тут край. Медвежий. «Вот!.. Вот о чем лучше думать…» В каждой таежной деревне вам расскажут любопытнейшие истории про медведей. Летом три бабы дорогу в тайге ровняли и канавы рыли. Идут обратно с лопатами и видят: сидит на дороге медведь, как собака на заднем месте. Перетрусили бабы — от медведя не убежать. Та, которая постарше, стала истово молиться богу. А молоденькая возьми да и стукани со всей силой зверя лопатой по башке. Третья баба решила «подмочь», подбежала сзади и тоже «вдарила» Мишку лопатой. Нашли на кого нападать с лопатами. Медведушко встал на задние лапы, передние расшеперил, заревел и бросился на бабу, которая «подмогала» — она ближе всех к нему оказалась, обхватил ее и давай мять; потом лапой провел по голове и лицу бабы, да не просто провел, а пробороздил когтями. Баба — без памяти, а ее подружки бежать во всю мочь. Очухалась баба, чувствует: медведь несет ее и дышит в затылок. Жарко так это дышит. И опять потеряла сознание. Не слышала, как он допер ее, как положил на землю и набросал на нее хворосту. И лишь когда приволок откуда-то сухое дерево, она опять пришла в себя, затаилась, не дыша — все равно уйдет, уж если припрятывает — уйдет, про запас пищу заготавливает. Вскорости прибежали мужики из деревни и убили медведя.
Васильев не верил, а ему говорили, что все было именно так, даже называли деревню и фамилии баб.
«Лишь одна женщина потерпела…»
В старину прямо во дворы забегали и зайцы, и волки. На зайцев петли ставили, для волков ямы рыли. Выроют поглубже, веточками забросают и будто нет ничего, а наверх падаль положат. Подбежит волк и — хоп в яму.
На диво быстро привык Васильев к этим местам с их невыносимой грязью весной и в ненастье, с их бесконечной пургой зимою, когда воздух становится тяжелым, тягучим, и мороз будто кипятком ошпаривает лицо. Неделю назад пурга застала его на пути в Карашиное. Враз исчезла под снегом дорога, синий вечер превратился в ночь. Васильев трепетно и упрямо нащупывал ногами гладкую твердь дороги, боясь заблудиться, прятал обмороженные щеки и нос в воротник полушубка и, удивительно остро ощущая всем существом своим эту страшную мглу, казавшуюся ему сошедшей с небес и непонятно устойчивой, бесконечную пляску снега и ветра, весело думал: в этом есть что-то романтичное. Осветить бы прожекторами, посмотреть и нарисовать…