Лев Правдин - Ответственность
«Труд — дело чести, доблести и геройства! И. Сталин.»
Призыв этот — явный плагиат: так задолго до Сталина уже сказал Максим Горький. Но редкий об этом знал, а кто знал, тот помалкивал. До поры.
И вот эта пора настала — вождь умер — оцепенение охватило всю страну. Оцепенение и какое-то выжидательное отчаяние. Ничего еще не зная об этом, возвращался Сеня с ночной рыбалки. Еще вчера, сразу после работы, вместе с такими же, как и он, рыбаками-любителями перебрался через протоку по слегка подтаявшему мартовскому льду на остров. Порыбачили, отвели рыбацкие души, переночевали в избушке, специально для этого и построенной, на зорьке еще порыбачили. Все остались до вечера, им во вторую смену, а он снова перешел протоку, вышел на схваченный морозным утренником прибрежный песок и только начал подниматься в гору, как увидел бегущего навстречу человека. Скачет под откос, высоко вскидывая длинные ноги, где и ходить-то боязно. Сеня сразу его узнал: учетчик с первого участка. Мужчина немолодой, хмуроватый и, как многие считают, чокнутый. Кто же еще так отважится? Была тут когда-то дорога, да тракторы растерзали ее, перемешали мох со снегом, все втоптали в грязь. Как белые косточки, торчат из этого месива, подмерзшего за ночь, малолетние елочки, ободранные тракторными гусеницами, да колышутся на ветру нежно зеленеющие хвойные лапки.
Бежит чокнутый учетчик, скачет по мерзлым, осклизлым кочкам развороченной дороги и радостно что-то орет, будто только что выскочил из огня. Или спасается от беды, которая гонится за ним, и не радостно орет, оповещая мир о своем спасении, а отчаянно взывает о помощи. Тогда Сеня поспешил навстречу, чтобы помочь несчастному, и тот тоже кинулся к Сене, выкрикивая хриплым, рыдающим голосом:
— Сталин же помер! Сталин!.. Сам Иосиф Виссарионович вчера помер в Москве…
Он, словно бы сослепу, как на столб, наткнулся на Сеню, обхватил его и, прижимаясь лицом к сырому брезенту плаща, заплакал:
— Как же это может быть? Люблю же я его, а он что же? Жить-то как же мы теперь станем…
Не дождавшись ответа, он взмахнул шапкой и запрыгал дальше. А Сеня, как был в рыбацком плаще, с удочками и наловленной рыбой в сетке, поспешил к проходной.
Там уже собралась большая толпа, а по талому мартовскому снегу все еще поспешно шли люди. Все смотрели на огромный портрет улыбающегося вождя с таким горестным изумлением, как смотрят обманутые растерявшиеся люди на обманщика, который своей смертью разрушил все их надежды. Он — символ прочной жизни, а символы не умирают. Как же он так?.. К такому горестному недоумению примешивался страх за все свое дальнейшее существование на этой холодной сумрачной земле.
А у огромного портрета уже суетились маленькие серенькие людишки. Они, словно обряжая покойника, действовали сноровисто и торопливо, чтобы поскорее отделаться от неприятной, но необходимой работы. Приставив лестницу, концы которой были обмотаны мешковиной, чтобы не поцарапать краску, приколачивали к портрету широченную черную с красным ленту. Гулко стучали молотки. «Крышку приколачивают, — подумал Сеня, — как на кладбище».
Никаких других мыслей у него не успело еще возникнуть, все случилось неожиданно, хотя о тяжелом состоянии Сталина чуть ли не ежечасно передавали по радио. Он, как и все, тоже с недоумением смотрел на суетню у портрета и вдруг поймал себя на том, что он и сам тоже задает себе вопрос, тот же вопрос, какой только что слышал от чокнутого конторщика.
— А мы-то теперь как же?..
Но ни отчаяния, ни растерянности не ощутил — одно только любопытство: как же все-таки теперь будет? И, словно в ответ на свой безмолвный вопрос, услыхал:
— Изображение-то не соответствует событию.
Знакомый парень, актер какого-то театра, высланный из Москвы в здешние места отдаленные. Работает на строительстве трактористом.
— А вы, видать, с уловом! Улыбка, говорю, вроде бы неуместна. Народ-то, замечаете, безмолствует, — проговорил он негромко, как бы сам дли себя, но в голосе его прозвучало нескрываемое торжество. Актер был молодой, никогда не унывающий парень, работал старательно и зарабатывал, по его утверждению, столько, сколько не заработать самому раззаслуженному актеру. Может быть, оттого на свою судьбу он не жаловался, жил открыто, весело, и все его любили. И вдруг такой торжествующий тон, как спасительная соломинка в море всеобщего уныния и страха перед неизвестным будущим.
— Ну и что же? — с интересом спросил Сеня, хотя не очень-то надеялся на соломинки, за которые хватаются отчаявшиеся. Но актер, как видно, надеялся…
— Очень, знаете ли, домой хочется, в театр, — мечтательно и в то же время решительно проговорил он. — Теперь-то нас раскрепостят, я думаю.
— Театр. Трудная там у них жизнь, голодноватая. У молодых особенно… — рассеянно проговорил Сеня, и его тоже потянуло в дом, где живет мама, чтобы поговорить с ней, посоветоваться с ней — единственным человеком, которому можно верить во всем и до конца.
— А что вы знаете про актеров?
— Мой отец в театре служил. До самого конца.
— Вот видите — до конца! — одобрительно воскликнул актер. — И я надеюсь до конца. Всегда надеялся, а теперь и подавно.
— Можно вас попросить, это вот все, рыбу эту и удочки…
— Давайте, давайте, — даже недослушав, согласился актер, принимая из Сениных рук сетку и удочки, — все будет в сохранности.
— Я хочу маме позвонить, — сказал Сеня и доверительно сообщил: — она тоже… только недавно «раскрепостилась».
Актер, как это может сделать только актер, вытянулся очень торжественно, словно поздравляя победителя, почтительно наклонил голову…
ОЖИДАНИЯ
Мама «раскрепостилась» еще в сорок девятом году, когда Сеня заканчивал второй курс строительного института, но ему все еще казалось — недавно. Наверное, оттого, что оба они много работали, по целым дням пропадали — она в клинике, он в институте и еще в разных местах, и поэтому встречались дома только поздно вечером.
Письмо от Бакшина они получили почти сразу же. Как всегда, строгое и деловое. Он хотел знать, как они устроились, и заявлял о своей полной готовности, если потребуется, оказать всяческую помощь. Они ответили, что вполне счастливы и ничего им больше не надо.
Им и в самом деле ничего не надо — все у них есть: свободная мирная жизнь, хорошая работа, верные друзья — чего же еще? А через полгода ее вызвали в военкомат и торжественно вручили орден. Потом, очень скоро, им дали двухкомнатную квартиру в новом доме горсовета. И все это без всяких стараний с их стороны. Об этом они тоже известили Бакшина. Он ответил поздравительной телеграммой, в меру торжественной, очень деловой, после чего связь прекратилась.
Это удивило Сеню. У него в столе хранились все мамины письма из лагеря, и только в двух или трех самых первых упоминается о Бакшине. Но самое главное — вот что тогда же насторожило Сеню: в самом первом письме превозносились преданность, одержимость и, главное, верность высокому долгу человека. А в следующем не было ни о преданности, ни об одержимости, а насчет верности сказано так: «О долге он говорит, как о цепи, сковывающей волю человека».
Это мама! А она редко так прямо высказывает свое мнение, а, высказав, почти никогда его не меняет. И вдруг так сразу прекратила переписку с Бакшиным и даже не вспоминает о нем. В чем тут дело, допытываться Сеня не стал. Есть, значит, что-то такое, какой-то порог, через который она не хочет или не может переступать.
Так раздумывал он, шагая по извилистой тропинке меж заросших мхом кочек и еще не выкорчеванных пней. Почта и телефонная станция помещались в административном бараке. Такой же барак, как и все жилые бараки, а назывался административным за то, что в нем, кроме почты, были еще разные учреждения: поселковый Совет, милиция и прорабские конторы. В длинном коридоре вечно толпились люди, чего-то ожидающие. Курили, разговаривали, поругивали начальство, читали разные объявления и приказы, расклеенные прямо на тесовых стенах и дверях. Под потолком, как в предбаннике, колыхался серый пар, перемешанный с табачным дымом, так что все смотрится, как в тумане.
Сейчас здесь было непривычно пусто — смерть вождя разрушила устоявшийся порядок жизни. Какое бы ни случилось событие — люди всегда тянулись к людям, одиночество становилось невыносимым, — подумал Сеня, вспомнив толпу у портрета.
В почтовом отделении за деревянным некрашеным барьером сидела только одна девочка-телефонистка. Изнывая в одиночестве, она громко сморкалась в платок и тихо плакала.
— Да, — сочувственно вздохнул Сеня. — Такое горе…
И девочка тоже сказала:
— Да. Они всегда так.
— Кто?
— Да вот же, — она повела рукой, указывая на опустевшие рабочие места. — Девчонки. «Ты, говорят, Верка, посиди, подежурь, а потом тебя отпустим посмотреть». Всегда, как что-нибудь интересное, — «Верка, посиди». Вот сижу и реву: обидно же. Вам что?



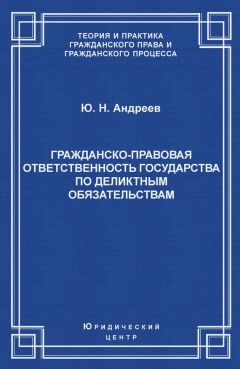
![Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/152078/152078.jpg)