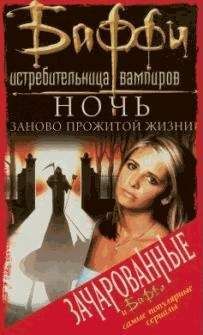Николай Атаров - Избранное
— Ну-ка, стульчик, доктор, позвольте.
Это открытие, конечно, что-то изменяло в жизни Дробышева. К утру, не поспав, он все обдумал и уговорил себя. Что ж, сказок про нас не расскажут. И в депутаты не выберут. Но хорошо, между прочим, что никто не узнал историю его шрама под правым веком. Хорошо, что война грозит не ему, что не он умрет от туберкулеза. И уж, наверно, на его веку не будет землетрясений, и он не будет бояться сойти с ума. А ведь он боялся — после землетрясения — и держал это в тайне от жены. Его обеспокоил случай с одним пациентом: тот сел бриться в здравом уме, встал — сумасшедшим и не порезался.
Доктор припомнил все это, все, что беспокоило и тревожило его в жизни, припомнил комиссара, который ремонтировал дизель на электростанции, припомнил дочь, злорадно представил себе, как она мотается с бригадами между Горьким и Сормовом, — и утром довольный старик вышел гулять на набережную, привычно опираясь на трость с резиновым наконечником.
Прошло еще два года. Снова была зима, в море — шторм, пять дней пароходы не заходили в Ялту, а когда наконец прибой утих, Дробышев поспешил на пристань выпить новороссийского пива в салоне пришвартовавшегося теплохода.
Доктор поднимался по трапу навстречу укачавшимся пассажирам с бледными лицами, кто-то рванулся к нему из толпы, порывисто обнял, поцеловал. Рядом с Ликой стоял молодой человек с чемоданом.
Это ее муж, Саша, просим любить и жаловать, они решили без предупреждения, как снег на голову, в море было так весело, нисколько не укачало…
Их оттеснили в сторону, Дробышев целовал дочь.
— Но ты-то, папа, как здесь очутился?
— Я шел в салон… Чудеса… Собирался пивком побаловаться… И не думал, не гадал… — Он суетился, пытался схватить чемодан. — Жизнь есть деяние.
Что-то приговаривая, он увлекал молодых обратно на теплоход.
Они выпили пива и сошли на мол.
Ялта после снежного шторма сверкала на солнце. Шла курортная, даже зимой щеголяющая по-летнему толпа. На набережной закутывали пальмы в рогожку. В городском саду красили в цинковый цвет статуи на фонтанах, фотографы грелись на солнышке. Вышли на промысел цыганки и приставали к гуляющим, совали прохожим под нос в смуглых ладонях бобы — красные, белые, черные, высохшие и точно из папье-маше.
— Пусть погадает, пусть погадает, — засуетился Дробышев.
— Не надо. Маму хочу поскорее увидеть.
Саша шагал впереди с чемоданом, разбрасывая ногами мокрую гальку, доктор вел дочь под руку, был оживлен, расспрашивал, умилялся.
Анна Никодимовна расплакалась в дверях, потом на нее нашел приступ молчаливой хозяйственной озабоченности. Доктор уселся в кресло и откровенно разглядывал зятя. То, что писала Лика, пожалуй, подтверждалось: славный на вид малый, с честным лицом, здоровый, молодой. Пожалуй, слишком молод, мог быть постарше.
Вдруг доктору пришла в голову веселая мысль, он натянул халат.
— Раздевайтесь, молодой человек.
— Лечить будете? — улыбаясь, спросил Саша.
Дробышев захихикал. Это была как раз та самая фраза, которую чаще всего говорили в ответ на докторское приглашение раздеться все эти инженеры-медеплавильщики, инженеры-холодильщики, полковники и майоры, которых он выслушивал в санаториях.
— Дышите глубже… Еще… Еще…
Дробышев выстукал Сашу, спросил: «Хорошо ли спите?», «Мочитесь ли по ночам?», «Не жалуется ли жена?». Под конец он шлепнул зятя по животу:
— А мясца мы еще нарастим, молодой человек!
И Саша совсем сконфузился. Он был уже не мальчик, ему почему-то стало стыдно перед женой, он смеялся баском и краснел и зачем-то поймал докторскую руку, когда тесть шлепнул его по животу. Он не знал, что это — чудачество или серьезный осмотр?
За обедом расходившийся Дробышев подливал вина в бокалы, веселился, расспрашивал, не дожидаясь ответа, как жить будут? Где — в Сормове или в Горьком? Не хотят ли иметь ребенка? Леся, решившая охранять мужа в этом разговоре, отвечала отцу спокойно и кратко. Радость встречи прошла. Только раз Леся умоляюще взглянула на мать, но та отвернулась, и, как в те ночи, когда они коптили камсу над самоваром, Леся все поняла: отец не только не любит их, он даже не испытывает родственной симпатии, он не боится их, не завидует, не ненавидит, он только злорадствует над тем, что у них не все устроено, попросту — что они молоды, что им предстоит жизнь.
— Жизнь есть деяние, дети мои, — сказал доктор и чокнулся с Анной Никодимовной.
Вдоволь напотешившись и проявив радушие, старик встал из-за стола и ушел гулять.
Молодые вышли в сад. Они оглядели из-за веток город, теснившийся внизу, — черепичные крыши, круглые нефтяные цистерны, гаражи под платанами. Море было двух цветов — в бухте и за молом. Теплоход дал три гудка.
— Помнишь, ты говорила: «Поедем в Крым и там повенчаемся в армянской церкви, на непонятном языке». Вот мы с тобой венчаемся, — сказал Саша.
Леся улыбнулась — это было не похоже на венчание. Грек в желтой рубахе окапывал виноградник на соседнем участке. Кипарисы положили длинные тени на все поле, земля в тени кипарисов была красного цвета.
— Как он назывался — Ван-Гог? — спросил Саша.
У них была веселая игра всю дорогу, вроде «викторины»: они узнавали художников. Они плохо знали художников. В Москве — от поезда до поезда — они побывали в музеях, Саша записывал то, что понравилось и самое диковинное.
В полумраке жесткого вагона ночью Леся растолкала Сашу. Ей так захотелось поболтать с ним.
— Смотри, врубелевский демон, — шептала она, показывая на верхнюю боковую полку, где в неестественной позе похрапывал пассажир; чемодан под головой ему мешал вытянуться, он закинул руки на лоб. Это было похоже. Врубелевского демона они знали и раньше. И весь остаток ночи они простояли в тамбуре, целуясь, смеясь, покуривая одну последнюю бесконечную папироску.
Анна Никодимовна убрала со стола, подмела, присела на тахте. В комнате темнело по-зимнему рано. Анна Никодимовна отдыхала, что-то обдумывая, чему-то ужасаясь, ведя какой-то счет. В это время из сада вернулись молодые. Анна Никодимовна притаилась, сама того не сознавая. Полная пожилая женщина сидела на тахте, раскинув короткие ручки, не доставая ногами до полу.
Дети отошли в угол веранды, где стояла араукария. Анна Никодимовна знала, что они рассматривают деревцо.
— Какой это породы, хотел бы я знать? — сказал Саша.
— Это араукария. Говорят, самое древнее растение на земле.
— Что-то вроде волосатой елки.
— Даже и не елки, а, знаешь, вроде отражения елки в воде…
— В быстрой воде, — добавил Саша.
Молодые люди помолчали. Анна Никодимовна сидела не шелохнувшись.
— В детстве она мне больше нравилась.
— Она была меньше?
— Точно такая же. Видишь, в какой кадушечке ее держат. На каждое человеческое поколение она только вот одну веточку прибавляет.
— Не много, — сказал Саша.
Анна Никодимовна вжалась в тахту и слушала. Леся предложила пройтись по городу, она покажет школу на горе, где она училась. Они быстро прошли мимо Анны Никодимовны, не заметив ее.
— Мамочка, мы скоро придем! — крикнула Леся в дверях.
Анна Никодимовна слышала, как щелкнула за ними английским замком парадная дверь. Встав с тахты, Анна Никодимовна стала припоминать, что ей надо сделать по хозяйству. Ах да — камсу прокоптить. Леся любила копченую камсу. Сад горел на закате красным огнем, как все сады на юге в декабре, но Анна Никодимовна ничего не замечала.
Она повторяла про себя все, что услышала, сидя в уголке на тахте. Что-то из сказанного детьми ей показалось давно знакомым. С ниткой недоконченной, но уже потемневшей камсы Анна Никодимовна вошла на веранду, приблизилась к елочке, стоящей на жардиньерке. Араукария тянула во все стороны коротенькие извилистые веточки. И вдруг то, что смутно казалось и раньше Анне Никодимовне, но было сложным, не по уму, стало простым и понятным.
Ей стало стыдно перед детьми. Было стыдно. И стыдно было даже не оттого, что жизнь прошла бессмысленно и пусто, не оттого, что она могла что-нибудь сделать и ничего не сделала, а оттого, что все это время в углу стояло на жардиньерке мохнатое растеньице, будто повторяя, будто передразнивая чужую жизнь.
— Вот гадина, — шепнула Анна Никодимовна, сама стыдясь своего приступа ненависти, и все-таки, не в силах сдержать себя, схватила влажной рукой растение за извилистую мохнатую веточку.
В калитке щелкнул замок. Анна Никодимовна разжала руку. Дробышев вернулся с прогулки. Он вошел на веранду, трость поставил в угол.
— Молодой человек пороху не выдумает… А? Здоровяк, ни на что не жалуется.
Анна Никодимовна молчала, стоя у араукарии, и Дробышева смутило ее молчание.
— Я думал, Аннушка, что бы подарить детям, — сказал он, — наш век кончился, подарим им…