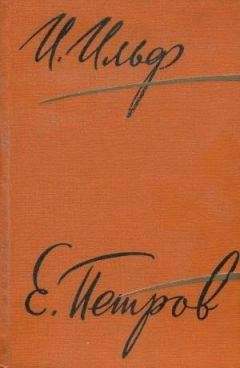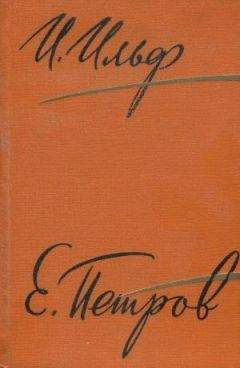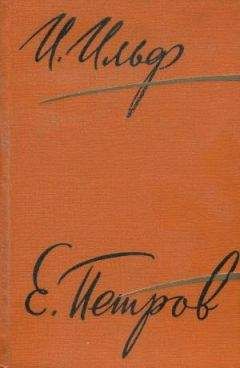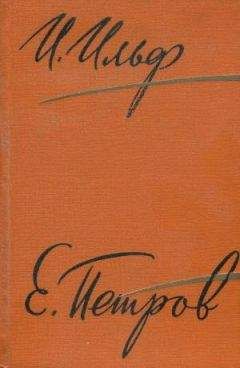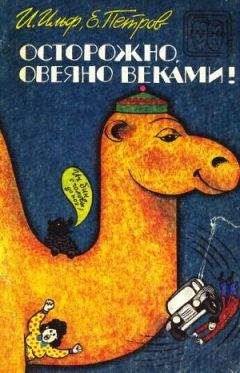Евгений Петров - Том 5. Рассказы, очерки, фельетоны
В тот день он читал Маяковского.
– Попробуйте перечитать его прозу, – сказал Ильф, поднявшись и отложив книги, – здесь все отлично.
Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность.
Мы сели писать. Ильф выглядел худо. Он не спал почти всю ночь.
– Может быть, отложим? – спросил я.
– Нет, я разойдусь, – ответил он. – Знаете, давайте сначала нарежем бумагу. Я давно собираюсь, это сделать. Почему-то эта бумага не дает мне покоя.
Недавно кто-то подарил Ильфу добрый пуд бумаги, состоящей из огромных листов. Мы брали па листу, складывали его вдвое, разрезали ножом, потом опять складывали вдвое и опять разрезали. Сперва мы разговаривали во время этой работы (когда не хотелось писать, всякая работа была хороша). Потом увлекались и работали молча и быстро.
– Давайте, кто скорей, – сказал Ильф.
Он как-то ловко рационализировал свою работу и резал листы с огромной скоростью. Я старался не отставать. Мы работали не поднимая глаз. Наконец я случайно посмотрел на Ильфа и ужаснулся его бледности. Он был весь в поту и дышал тяжело и хрипло.
– Не нужно, – сказал я, – хватит.
– Нет, – ответил он с удивившим меня упрямством, – я должен обязательно до конца.
Он все-таки дорезал бумагу. Он был все так же бледен, но улыбался.
– Теперь давайте работать. Только я минутку отдохну.
Он отклонился на спинку стула и посидел так молча минут пять.
Потом мы стали писать юмористический рассказ о начальнике учреждения, ужасном бюрократе, который после волны самокритических активов решил исправиться, стать демократичным и тщетно зазывал посетителей в свой кабинет. Писать не хотелось. Писали, как говорится, голой техникой. Мы дописали до половины.
– Докончим завтра, – сказал Ильф.
Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа.
– Значит, завтра в одиннадцать, – сказал Ильф.
– Завтра в одиннадцать.
Тяжелая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок – последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом.
Я никогда не забуду этот лифт, и эти двери, и эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью лестницы нового московского дома. Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером «25» и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь синие подушки с кислородом. Я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что когда носят подушки с кислородом, – это конец. И твердо верил, что, когда приедет знаменитый профессор, которого ждали уже часа два, он сделает что-то такое, чего не смогли сделать другие доктора, хотя по грустному виду этих докторов, с торопливой готовностью согласившихся позвать знаменитого профессора, я мог бы понять, что все пропало. И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая шубы, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.
И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер. Окно было широко раскрыто, и по комнате свободно гулял холодный апрельский ветер, шевеливший листы нарезанной Ильфом бумаги. За окном было черно и звездно.
Это случилось пять лет назад. Об этом последнем своем апреле Ильф написал в записной книжке: «Люблю красноносую весну».
Пять лет – очень короткий срок для истории. Но событий, которые произошли за эти пять лет, хватило бы ученому, чтобы написать историю века.
Я всегда думаю, что сказал бы Ильф об этих событиях, если бы был их свидетелем. Что он сказал бы и что делал теперь, во время Отечественной войны? Конечно, он делал бы то, что делаем все мы, советские люди, – жил бы для войны и победы и жил бы только войной и победой.
Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф. Он был принципиален до щепетильности, всегда откровенно говорил то, что думает, никогда не хвастал, глубоко и свирепо ненавидел все виды искательства и подхалимства (и особенно самую противную его разновидность – литературное подхалимство). Он прекрасно знал цену дутой славы и боялся ее. Поэтому он никогда не занимался так называемым устройством литературных дел, не просил и не желал никаких литературных привилегий. Это ему принадлежит выражение – «Полюбить советскую власть – этого мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила». И он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему, труд человека, по выражению Маяковского, вылизывающего «чахоткины плевки шершавым языком плаката».
1942
Остров мира*
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Мистер Джозеф Джекобс-младший – крупный коммерсант, 65 лет.
Миссис Джекобс – его жена, 59 лет.
Памела – их дочь, молодая девушка.
Граф Эдгардо Ламперти – ее жених.
Артур – сын мистера Джекобса, молодой человек.
Миссис Симпсон – их старшая дочь.
Мистер Роберт Симпсон – ее муж.
Мистер Джекобс-старший – глубокий старик.
Мистер Джемс Джекобс – адмирал.
Полковник Эллис А. Гудмэн.
Фрэнк Суинни – секретарь Джекобса-младшего.
Майкрофт – камердинер, старик. Доктор О'Риали.
Священник м-р Гаттон.
Кэтрин Моррисон – экономка, 45 лет.
Мистер Баба – капитан японского парохода, старик.
Махунхина – царь маленького племени.
Мистер Джефрис – специальный корреспондент «Дейлн-Мейль». Полицейский офицер, слуги в доме Джекобса.
Действие происходит в наши дни.
Акт первый
Старый комфортабельный дом семейства м-ра Джекобса-младшего близ Лондона. Обширный холл. Камин. Лестница. Столик, кресла, диваны. Сквозь большие стеклянные двери, ведущие в сад, виден зимний пейзаж.
1Входит Майкрофт. За ним – слуга с охапкой дров и экономка.
Майкрофт. Вот сюда.
Слуга складывает дрова возле камина и уходит.
Экономка. Вы уже немолодой человек, Майкрофт, и вам трудно разжигать камин самому. Почему вы не хотите, чтобы камин разжигали Майкл или Сэм?
Майкрофт (накладывая в камин дрова). Я тридцать лет разжигаю этот камин. За это время я не пропустил ни одного дня. (Ставит на столик бутылку портвейна, слегка придвигает кресло, кладет на столик журналы.) С тех пор как с мистером Джекобсом случилось это, миссис Джекобс велела подавать ему вместо газет только юмористические журналы.
Экономка. Все равно. С тех пор как с мистером Джекобсом случилось это, он и в юмористических журналах находит то, что ему нужно. Если мужчина вобьет себе что-нибудь в голову, ему уж ничем не поможешь. Вчера миссис Джекобс весь день проплакала в своей комнате. Уж я-то знаю. Будь я его жена…
Майкрофт (кротко). Не говорите глупостей, Кэтрин.
Экономка. Это я-то говорю глупости?
Майкрофт (кротко). Вы, Кэтрин.
Экономка. Нет, я никогда не выйду замуж ни за одного мужчину. Они грубы и неприличны.
Майкрофт. Бедные мужчины!
Экономка. С тех пор как с мистером Джекобсом случилось это все в доме с ума посходили. И вы тоже, Майкрофт.
Майкрофт (кротко). Вы опять уронили свою спицу. Я не успеваю подбирать их по всему дому. (Подает ей спицу.)
Экономка. Спасибо. Вы очень любезны. (После паузы.) Боже мой, боже мой, я даже не знаю, что и подумать.
Майкрофт (кротко). А зачем вам думать, Кэтрин? С каких пор стали вы думать?
Экономка (сокрушенно). Я не узнаю нашего старого дома. А ведь это, Майкрофт, один из лучших лондонских домов. Всегда такой спокойный, респектабельный дом. Я не хочу сказать ничего плохого про мистера Джекобса, но дом производит такое впечатление, будто в нем лежит покойник. А все потому, что с мистером Джекобсом случилось это.