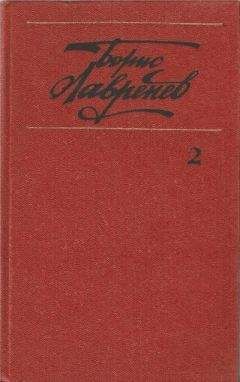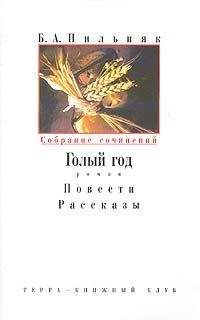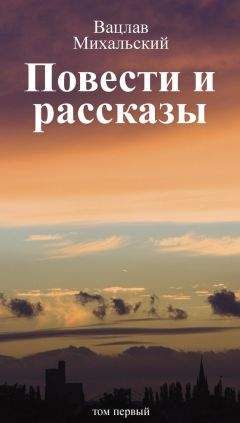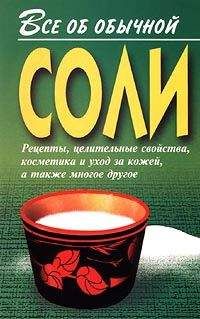Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
— Это я купил… вместо старой шляпы, — несколько озадаченно ответил профессор.
— Купил?.. Это? Ты с ума сошел? В пятьдесят четыре года клоунский картуз? У тебя совсем идиотский вид! Что ты сделал со своей бородой? Это наваждение! Сними сейчас же эту дрянь, чтоб я ее не видела!
Профессор от природы был робок, но вспыльчив. В возмущении и гневе старой подруги он усмотрел покушение на свою самостоятельность и вышел из себя.
— Что? Я не мешаюсь, когда ты изволишь накручивать на себя спереди и сзади дурацкие финтифлюшки. Подумаешь — пятьдесят четыре года! Что же, мне по этому случаю гроб на голове носить? Имею я право делать, что мне хочется? Я не потерплю бабьего деспотизма!
— Он совершенно ополоумел, — всплеснула руками Анастасия Андреевна в неограниченном ужасе. — Пойми же, что у тебя в этом картузе вид кретина.
Хотя профессор и чувствовал втайне странную неловкость и готов был уже обвинить себя за поспешную покупку, гневный голос жены только раздразнил его, и он тоже закричал.
— У тебя без картуза кретинский вид! Я знаю, что я делаю. Еще раз попрошу не лезть с непрошеными советами. — И, повернувшись в дверях, швырнул зло: — Старая корова!
Анастасия Андреевна поглядела на хлопнувшую дверь, постучала сгибом пальца себя по лбу и беспомощно спросила у стен и мебели:
— Ну, скажите по чести, видели вы второго такого дурака?
ГЛАВА ПЯТАЯ
Последующие пять дней принесли профессору немало огорчений. Знакомые при встречах шарахались от него, как полинезийцы от табу, и с самым неделикатным видом пялили глаза на его необычайный картуз. Молодые республиканцы в лаборатории, не сдерживаясь, гоготали ему в спину и присвоили непочтительную кличку «пятнистой медузы».
Анастасия Андреевна дулась, котлеты за обедом были явно пережарены и хрустели на зубах, подобно ландриновому монпансье.
Было совершенно очевидно — шатания основных жизненных устоев происходят от проклятого картуза. Стоило только выбросить его на помойку и купить новый, как все пришло бы в немедленное равновесие…
Но профессором овладело необъяснимое злобное упорство, которое появляется обычно у застенчивых от рождения людей, когда им приходится сталкиваться с противодействием их капризам.
Он исхудал, пожелтел, но упрямо носил блистательный головной убор и даже отбрасывал его пышную массу на затылок, благодаря чему в скромном лице его появился внезапный оттенок этакого гусарского ухарства.
По крайней мере, проходя утром в лабораторию, он встретился с двумя красноармейцами. Завидев профессора, один из них, румяный и гладкий, как девушка, с восхищением сказал товарищу:
— Вот это лихой папаня! Хоть сейчас на коня и к буденновцам!
Конечно, это было очень нелепо, но профессор от этих слов внезапно почувствовал себя молодым и сильным и, продолжая свой путь в святилище науки, даже выпрямил грудь и старался отбивать ногами какой-то внутренний такт.
По мере возможности он оправдывал в этот момент древнюю поговорку о Юпитере, лишающем разума.
Понемногу люди, знавшие Александра Евлампиевича, начали привыкать к бирюзовому ореолу над его лбом и кофейному воздушному шару, колеблющемуся над лысиной, и перестали замечать непристойную фривольность дьявольского картуза, а людей незнакомых не замечал сам профессор по причине отмеченной уже близорукости.
Даже Анастасия Андреевна успокоилась, котлеты приняли должную мягкость, и между супругами произошло полное примирение, в ознаменование чего профессор пожелал купить жене вышитую дорожку на рояль.
Утром он снова выехал на втором номере к проспекту 25 Октября, и этот серенький день нежданно ознаменовался…
Впрочем, не стоит забегать вперед и заранее открывать читателю карты.
Это могут делать только в романах, и то маститые романисты, автор же человек скромный, и ему нужно приобрести своего читателя.
Профессор благополучно купил желаемую дорожку, цвета крем, по которой были вышиты узором ришелье очаровательные, бесподобные, непревзойденные розы. Вся вышивка была так нежна, так трогательна и прозрачна, что Александр Евлампиевич, не торгуясь, заплатил восемнадцать рублей и отправился к домашним пенатам.
Правда, он потолкался еще по Гостиному двору, стоял не менее шести минут у витрины кожтреста и зашел к знакомому часовщику проверить свой хронометр, но на эти невинные занятия ушло не более пятнадцати минут в целом.
Приехав домой, он дружески поцеловал в обе щеки Анастасию Андреевну, которая вручила ему полученное от сына письмо.
Сын Александра Евлампиевича, по окончании военно-медицинской академии, заинтересовался изучением малярии и получил командировку в Кушку, где, как известно, для обитателей крепости природа вырабатывает только два продукта широкого потребления: двухвершковых скорпионов и тропическую малярию.
Профессор уселся за обеденный стол, повязался, как обычно, салфеткой и, прихлебывая капустный суп, прочел с любознательностью новые сведения о происхождении малярийных очагов.
Только дочитав письмо, он вспомнил о подарке и сказал жене:
— И принес тебе, Тасенька, подарок. Пройди в прихожую, он у меня в кармане пальто. Такой сверточек.
Анастасия Андреевна, порозовев от удовольствия, вышла, по очень долго не возвращалась. Профессор с удивлением посмотрел на дверь и хотел уже встать, как Анастасия Андреевна появилась на пороге, держа развернутую дорожку.
У нее было счастливое, но и несколько встревоженное лицо.
Подойдя к мужу, она ласково прикоснулась губами к его лысине.
— Спасибо, Сашенька! Прелестная дорожка. Но, голубчик, до чего ты стал рассеян! Почему твой хронометр валяется в кармане пальто? Счастье, что не вытащили!
Профессор опустил глаза на руку жены и в ямке ладони увидел золотые часы. Тепло поблескивала, раскачиваясь, свесившаяся цепочка.
— Странно, — сказал он, потянувшись к часам, — как же это вышло?
Но, еще не коснувшись часов, он вдруг отдернул руку и вскочил.
— Это не мои часы! — вскрикнул он. — У меня же не цепочка, а шнурок!
Анастасия Андреевна застыла, перебегая взглядами с лица мужа на часы и обратно.
Профессор, расстегнув пиджак, пощупал селезенку и вытащил из жилетного кармана хронометр, который закачался на круглом шелковом шнуре.
— Вот мой хронометр, — продолжал он, совершенно растерявшись, — а это… это не мои часы!
— Как же они могли попасть в твой карман, голубчик! — ахнула профессорша.
— Дай сюда, — твердо бросил профессор и взял часы таким странным движением, как будто золото раскалилось и обожгло ему руку.
Он повертел часы, открыл крышку и поднес к глазам циферблат.
— Нет… не мои, — упавшим голосом сказал он, — мои английские, а эти Лонжин. Тоже превосходная фирма, но это ничего не объясняет. Я отказываюсь понимать!
Он продолжал разглядывать часы, подержал на руке тяжелую анкерную цепочку и вдруг побледнел. Цепочка была оборвана, вернее перекушена острым инструментом, звена за два до кольца, продевающегося в петлю жилета. Профессор положил часы на стол с неимоверной быстротой, почти бросил.
— Они обрезаны… обрезаны! — выдохнул он трагическим шепотом.
— Но откуда они у тебя?..
— Ах!.. Я откуда знаю? Столько же, сколько ты. Невероятная вещь!
Профессор волновался, у него дрожали руки и брови.
— Успокойся, Саша, — положила руку на плечо ему жена, — припомни хорошенько, где ты был.
— Сейчас… сейчас. Сначала я ехал в трамвае, потом на углу Садовой купил газету, затем зашел в магазин за дорожкой, оттуда я прошелся по Гостиному… поглядел витрины. Еще стоял долго у обувного магазина. По дороге домой я зашел к Ивану Парменычу проверить хроно… — Профессор остановился и радостно хлопнул в ладоши. — Ну да же, конечно! Ах я, старая растяпа! Вероятно, часы лежали у него на прилавке, и я как-нибудь машинально… Но что подумает Иван Парменыч? Вот история. Давай я их отвезу. — Он схватил часы и устремился к двери.
— Саша! Куда же ты? Дообедай, тогда и отвезешь.
— Что ты?.. Что ты? — возмутился профессор… — Человек, верно, ищет, голову потерял, милицию вызвал, угрозыск. Может, сюда уже ищейка идет.
Он на лету поцеловал руку жены и убежал с необычайной энергией.
Анастасия Андреевна долго ждала его возвращения, но только около восьми вечера хлопнула входная дверь, и в столовую ввалился в картузе, пальто и галошах Александр Евлампиевич. На безмолвный вопрос жены он поднял руку жестом слепого Эдипа. В комнате, как свинцовый шар, повисло грузное молчание.
— Что? Что же ты ничего по говоришь? Ради бога! — крикнула Анастасия Андреевна.
— Часы… не Ивана Парменыча, — глухо выдавил профессор и тяжело бухнулся в кресло, так что точеные ореховые ножки обидчиво взвизгнули и затрещали.