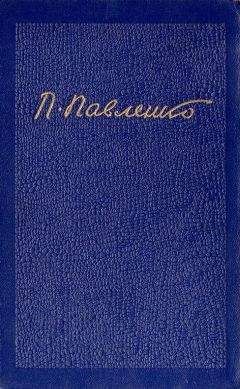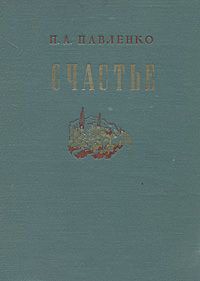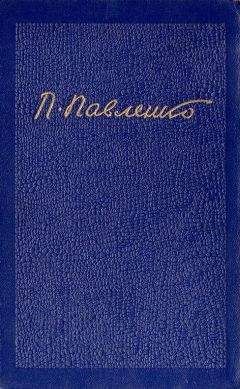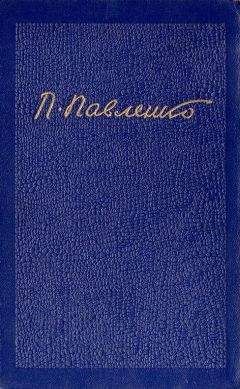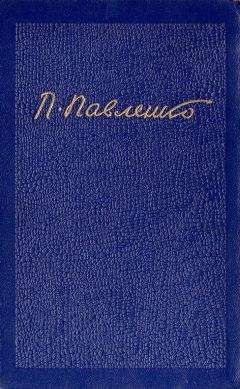Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 2
Прораб, немолодой армянин из городских, недоверчиво разглядывал пассажиров дрезины.
— Товарищ Белоногов, это вы? Нашли время кататься, ей-богу! — сказал он злым, раздраженным голосом. — Езжайте вы, ради бога, время только у людей отрываете, а смотреть чего? Один скандал!
— Какой скандал? — тихо спросил его Белоногов.
— Палатки где? «Не пейте сырой воды» где? А еще иностранцев возите! С утра обещали «титан» — до сих пор нету. Этому вашему Файвиловичу голову надо оторвать!
— Ладно, ладно, я сейчас дам знать, чтоб поторопились, — успокоил его Белоногов.
— Ехать, ехать далее, — грубовато сказал водитель дрезины. — Тут, пан дорогой, или как вас, не знаю, интересу особого нет, а на Куйган-Яре, у Зеленого моста, там такой интерес имеется, что сердце взыграет. Вчерась, Аркадий Васильевич, — обратился он запросто к Белоногову, — балыкчинские колхозники, знаете, чего сделали?.. Кара-буру десятиметровую заложили.
Белоногов огорченно щелкнул пальцами.
— Заложили-таки? Вот черти! А я хотел гостям это дело показать. Эх, обидно.
— Вторую сегодня можно, вчерашнюю унесло, ничего, можем успеть, если есть желание. Я зеленую улицу имею.
Гостям объяснили, в чем дело.
Девочка-школьница, русская, вскочила в дрезину, как на вражеский танк. Ее лицо выражало испуг.
— Нет газет! Ни одной!
Она, вероятно, думала, что дрезина привезла представителей штаба БФК, и развела руками, не зная, что предпринять в столь трудной обстановке.
— Мы по другому делу, — сказал Белоногов, легонько подвигая ее к выходу.
— Как по другому? По какому другому? — спросила она с таким неподдельным удивлением, что в кабине все улыбнулись. Школьница не могла себе представить, что могли быть другие дела, а не одно единственное дело — канал.
Шпитцер глядел на пролетающие мимо них картины новой для него жизни. Мир, о существовании которого он раньше смутно знал что-то расплывчатое, сейчас ощутимо входил в него, как смола соснового бора, как соль океана, и хотелось остаться в этом бору или у этого океана и начать заново жизнь, и она обязательно будет отличной, не то, что прежняя.
Он глядел, как люди, потные до лоска, торопливо копают землю, и ему хотелось рукоплескать им, видел, как пляшут в пыли и на жаре, — хотелось плакать от радости.
Немцев, по всему чувствовалось, здесь недолюбливали, но стоило Шпитцеру сказать: «Я австриец, из Вены, рабочий, из тех самых, что, не покорившись, с боями покинули родину», — как все сразу менялось. Оказывается, таких немцев здесь знали, любили и уважали.
Глядя на жизнь, проскальзывающую мимо автодрезины, Шпитцер видел Вену, Флоридсдорф, завод, баррикады и навек родные, неотделимые от него лица товарищей — и тех, кто погиб, и тех, кто отдыхает до будущих боев, — и мысленно беседовал с ними. Когда-то настанет час возвращения домой? Когда-то увидит он родные места и родные лица, и обнимет близких, и пожмет руки друзей?
Но если бы это случилось и завтра, он вернется другим, как бы более рослым и более сильным. Его закаляет здесь каждое видение творчества, созидания, преодоления. И, глядя на чужие, выжженные безжалостным солнцем пространства, на незнакомых ему людей, Шпитцер думал о Вене, и было так больно на душе, что едва удерживались слезы. Он пожалел, что находится здесь, а не у себя в Вене, где ему все так близко, так родственно и знакомо. Вена — город, но это, с другой стороны, самостоятельная страна, прелестная, мудрая, очаровательная. Как он далек от Вены, но Вена, кажется, еще дальше от него, чем он от нее!
Почти не видя того, что пробегает за окном дрезины, Шпитцер углубился в воспоминания. Был праздник, и он со своей подружкой Минной, официанткой кафе «Иоганн Штраус», с утра веселились на шумных аллеях и площадях Пратера — парка, которым справедливо гордилась Вена. Чего здесь не было! И крохотные кафе на отдаленных аллейках, и палатки фокусников, и цирки, и танцы, и особенно это чисто венское умение веселиться в толпе, шуметь, зубоскалить, петь и плясать с незнакомыми, как с друзьями, точно весь мир — один дом и этот дом — Вена.
Здесь, в тенистых аллеях Пратера, можно было встретить аристократку, в жилах которой текла кровь императоров, цыганок с усиками, румынок, сухих, с задумчиво-скорбными глазами сербок, живых и дерзких венгерок с манерами королев.
И как они все дружно (представлялось Шпитцеру) жили, дети разных народов и языков, обычаев и привычек, до тех самых пор, пока Гитлер не приказал одеть Вену в свою униформу! Теперь, пишут Шпитцеру, Вена мертва, тиха, без голоса. Замер Пратер. Приумолкли крохотные кафе, где шумели политики и философы из швейных и часовых мастерских. Веселая Вена как бы овдовела, притихла, перестала смеяться, а Вена без смеха, без танцев — покойница. Город сразу посерел, как только в нем перестали громко смеяться. Веселье жителей украшало Вену более, чем ее сады, парки, история и политика. Даже кофе, пишут Шпитцеру, стал хуже на вкус, тот знаменитый кофе по-венски, которым город славился не меньше, чем своей музыкой. Куда же дальше!.. Затихли крохотные кафе, каждое чем-нибудь знаменитое, то воспоминанием о Бетховене, то анекдотом о Моцарте, то, наконец, тростью Оффенбаха, с их чудесными оркестрами, с музыкантами, из которых каждый был тоже маэстро, хотя бы и не признанным. А Венский лес?
Это народный лес, всем доступный, всем одинаково дорогой, а главное, всем в одинаковой мере принадлежащий. Красота тоже не отпускалась одному в большем, другому в меньшем количестве, и соловьи пели одинаково хорошо для человека любого сословия.
Сколько там завершалось счастьем или горем юношеских увлечений! Сколько стихов и песен посвящено этому лесу, который принадлежит всей Вене и каждому из ее жителей!
Да, нет нигде такого леса, с таким удивительно поэтическим прошлым, с такой поэзией, с таким эпосом своей подлинно народной судьбы!
Ах, как ему захотелось в Вену! И, злясь на то, что он так далек от нее, Шпитцер стал перебирать в памяти все то, что привело его к бегству из Вены. И что же? Сколько ни думал, выходило одно: не надо, не надо было лезть на рожон, в открытую драку, заведомо зная, что победы не будет.
Знали же, что проиграют? Знали.
Старый Фриц Шпитцер, умирая, говорил: «Венский социализм, как и венский кофе, хорош за столиком в небольшой компании». Так и вышло.
А теперь? Кто будет думать о Вене? Кому она нужна, в общей свалке? О Вене надо Шпитцеру забыть, как о красивом сне, который не может сбыться. Вены у тебя нет и, вероятно, уже никогда больше не будет. И Минны нет. И не будет. Начни жить заново. Все равно где. Пусть на Чирчикстрое. Начни. Всё снова, будто ты не жил.
Воспоминания Шпитцера закономерно встретили на своем пути миниатюрную Минну. Где теперь она и вспоминает ли, может ли, имеет ли право и желание иногда вспоминать о том, кого называла она своим и на всю жизнь?
Кто знает, кто может что-нибудь сказать об этом, если две жизни оторваны одна от другой и никто не знает, на сколько лет?
Он глядел в окно, уже ничего не видя за ним: мешали слезы. Как он был далек от Вены, и как трудна будет дорога назад, домой! Но он вернется. Он все это еще увидит. Безусловно.
Он глядел, как торопливо копают землю, и ему хотелось рукоплескать. Он видел танец — ему хотелось плакать оттого, что он видит такое, чего еще никогда не видел. Он был немец, но стоило сказать «я из Вены», как все менялось. Он никогда не забудет ни ласки здешних людей, ни этого солнца, ни здешних восторгов. Все, что он видит, вошло в него и осталось, все это теперь в нем и, кажется, на всю жизнь.
Зигмунд Шпитцер жил в Советском Союзе уже пятый год, хотя не знал еще русского языка даже в той мере, какая необходима для незамысловатой болтовни на улице или в ресторане. Вначале, когда он прибыл в Москву с обожженными на венских баррикадах и еще не зажившими руками, казалось, что Москва — транзитная станция и что он здесь задержится ненадолго. Человеку, который связан с восстанием, не так легко, однако, найти себе место в мире. Германия была для него надолго закрыта. Швейцария, на которую он, признаться, сильно рассчитывал в качестве опытного механика, не торопилась раскрыть ему свои двери. В Болгарии человеку с немецкой фамилией делать было решительно нечего, к тому же там хватало и собственных немцев и тех, кто бежал из Германии.
Вообще всюду, куда Шпитцер ни обращал свои взоры, было много беженцев. Немцы бежали из Германии и Австрии, поляки — из Польши, чехи — из Чехии, а в таких странах, как Венгрия и Румыния, вопрос о наплыве беженцев уже начинал возбуждать внимание общественности. Поехать в Китай? Отрываться от родной Европы на пять — восемь лет казалось ему преступлением. В течение ближайших пяти лет произойдет революция в Германии. Все сразу изменится.
На все эти размышления ушел год с лишним, а затем он решил ехать в Испанию. С Испанией, однако, не вышло, он не был настойчив в нужной мере, и, таким образом, только в 1937 году впервые перед ним развернулась карта его дальнейшей жизни, и оказалось, что единственным местом, где он может жить и трудиться, является Советский Союз. Только тогда он и сел за учебники. Выучить русский язык и хорошо ознакомиться с жизнью своей второй родины стало его целью. Нельзя сказать, однако, что он с первых шагов преуспел во многом. Язык давался ему туго, а обилие в Советском Союзе немецкой литературы избавляло от необходимости торопиться с изучением русского. Теперь он ехал на один из металлургических комбинатов в Узбекистане и целыми днями зубрил русские слова. Система у него была своя, он ей очень верил: заучивать сначала только существительные и глаголы в неопределенном наклонении, все остальное потом, в виде отделки. Шпитцер не намеревался делать докладов и готов был ограничиться самым малым.