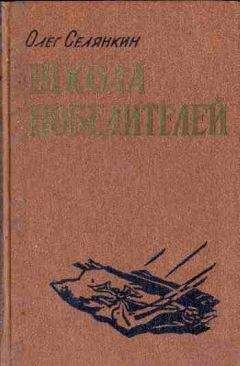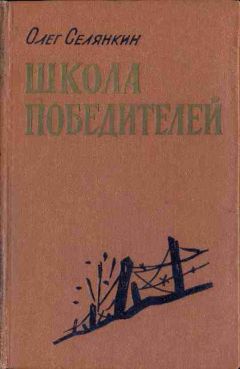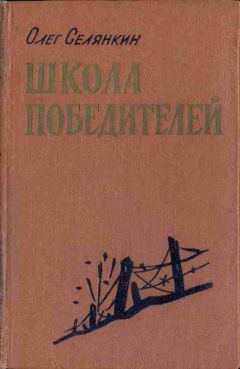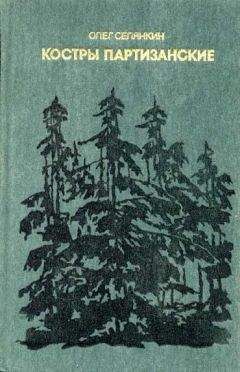Олег Селянкин - Вперед,гвардия
Осень кончилась внезапно: еще вчера размокшая земля липла к ногам, а сегодня она покрылась твердой колючей коркой, окаменела. Ветер с залихватским свистом налетал на полуразрушенные войной деревни, безжалостно срывал листья с деревьев и гнал их перед собой, в порыве безрассудной расточительности устилая ими землю.
Потом хлопьями повалил мягкий снег. Елки набросили на себя белые накидки. Нарев огромной извилистой траурной лентой бежал среди белых берегов. Вода, казалось, стала тяжелее. Волны, умерив свой пыл, не так шумно плескались у берегов. Попав на ветви кустов, Еода мгновенно замерзала, превращаясь в звонкий, крепкий осенний лед.
Берега словно вымерли. Только около фронта, который еще ближе подошел к Висле, над землей стелется сизоватый дымок, похожий на легкий туман раннего летнего утра. Это топятся печурки в солдатских землянках. Сидят солдаты под тремя накатами, покуривают около раскаленной печурки и тихонько, чтобы не спугнуть сон спящих, судачат о том, скоро ли кончится война и всех отпустят по домам. Но еще чаще гадают, когда наступит настоящая зима. Сейчас самая проклятая пора для солдат: в сапогах ноги мерзнут, а если валенки наденешь, да еще промочишь их — пиши пропало. Чего доброго, и на култышках домой вернешься.
И если трудно солдатам, то на катерах хоть плачь. Тонкие борта нисколько не спасают от холода. В кубриках стоят «буржуйки». Пока они топятся, можно сидеть раздетым, душно и влажно, как в парилке. Но только погас огонек — колючий иней везде располагается хозяином, и матросы поспешно натягивают полушубки.
Бывает и так: отрывает, отрывает матрос свой полушубок от борта, потом выругается, махнет рукой, схватит шинельку, подбитую рыбьим мехом, и бежит на вахту.
А если катера идут — и того горше. Волны сбрасывают свои гребни на палубы, покрывают их льдом. Палубы становятся бугристыми, скользкими. Один неосторожный шаг — и окажешься за бортом. Но хуже всего — опять-таки с ногами. Тонкие подошвы промерзают за несколько минут. Одно спасение — нырнуть в машинное отделение и поблаженствовать там, пока окликнут с вахты.
А плавать приходится. Вот и сейчас, хотя река забита «салом» и льдины со скрежетом налезают друг на друга, среди них пробиваются тральщики. Нет даже подобия строя, и какой-нибудь штабник с ужасом схватился бы за голову, увидев их. Каждый идет там, где надеется проскочить. Вперед вырвался тральщик Мараговского. Теперь им командует мичман Никишин. Выписавшись из госпиталя и попав в Пинск, он зашел к Норкину. Встретились как любящие братья. Не обошлось даже без неуклюжего мужского поцелуя. Поговорили о жизни вообще, о планах на будущее, а потом Норкин предложил:
— Иди, Саша, ко мне?
Никишин отвел глаза и с интересом стал рассматривать эмблему на своей фуражке. Норкин истолковал его замешательство как смущение или как невысказанное чувство благодарности и продолжал еще увереннее:
— Чигарев возражать не будет, с Головановым тоже договорюсь… Ну, что молчишь? Решай.
— Не обижайтесь, Михаил Федорович, а я иначе думаю, — ответил Никишин и положил фуражку на стол. — Получается вроде бы подшефным я у вас… Хочу сам дорожку в жизни протаптывать. Ведь не все же время вы будете меня за ручку водить?
Норкин не ожидал отказа, был поражен словами Александра и нахмурился, обиженно засопел. От всей души предлагал, а он… Однако здравый рассудок взял верх, Норкин пересилил себя и ответил даже равнодушным тоном:
— Я и не настаиваю. Просто предложил.
Вот и оказался Никишин опять командиром тральщика. Он не обижался ни на команду, ни на отсутствие работы: матросы один к одному, а задания и того лучше. Сначала подвозили боеприпасы, продовольствие, участвовали в высадке десантов, а сегодня пробиваются к бронекатерам Норкина. Засел Михаил Федорович со своими катерами у Демби! Который день драка идет, снаряды вот-вот кончатся, а не уйдешь: десантники и пехота все время просят огонька подбросить.
Никишин стоит в рубке и постукивает ногой об ногу. Руки его засунуты в карманы шинели, плечи приподняты. Хочется поднять воротник, но Никишин сдерживается: Копылову, который с утра торчит у пулемета, и вовсе тошно.
Фронт уже близко. Орудия бьют с обоих берегов, и снаряды, противно воя, то и дело проносятся над катером. А он, то взбираясь на льдины, то зарываясь в них, идет вперед. Его борта покрыты глубокими царапинами: осенний лед крепок, упрям, сдаваться не хочет. Того и гляди, прорежет тонкую обшивку.
«Сало» идет гуще. Оно временами так сжимает катер, что он почти останавливается. Это страшно нервирует. Еще затрет, чего доброго, и протащит через фронт прямо в лапы фашистам, под залпы их пушек. Никишин то и дело выходит из рубки, всматривается в левый берег. Где-то здесь должен быть штаб дивизиона Норкина.
Снежный заряд обрушивается на катер неожиданно. Белая пелена вдруг закрыла правый берег, наползла на нос катера, и мокрые хлопья снега залепили смотровое стекло.
— Ориентиров не вижу, — доложил рулевой. Никишин открыл дверь, хотел выйти, но кто-то из матросов уже протирал стекло.
В полной темноте нашли штаб дивизиона Норкина. Тральщик подошел к берегу, и Никишина сразу засыпали вопросами:
— Что привез?
— Когда раненых грузить?
— Где комдив? — в свою очередь спросил и Никишин.
— В штабной землянке. Как на обрыв подымешься, сразу направо.
Никишин спрыгнул на землю и, неуклюже переваливаясь, направился на розыск штаба. Но искать его не пришлось: тропинка, протоптанная в снегу, обрывалась у штабной землянки. Никишин толкнул дверь, шагнул вперед и замер у порога. Только грубый окрик: «А дверь за тобой кто закрывать будет?» — вывел его из столбняка. Да и было чему удивляться. Посреди землянки Норкин почти кулаками отбивался от матросов, которые сдирали с него обледеневшую одежду. Рядом с Норкиным суетился Чернышев. Против обыкновения, в его действиях не замечалось робости. Он так же бесцеремонно, как и матросы, покрикивал на комдива.
Сначала Никишин ничего не мог понять в этой сутолоке, но потом догадался. Оказывается, Норкина недавно вытащили из воды, заставляют переодеться, а он все рвется к микрофону радиостанции, чтобы отчитать за что-то Гридина.
— А ну! — вдруг выкрикнул Чернышев. Два матроса сорвали с Норкина мокрую тельняшку, а третий набросил ему на голову свитер. Михаил Федорович обрушил на них поток брани, одним рывком натянул свитер на себя и крикнул:
— Кому сказано — не мешать?!
— Теперь валенки! — невозмутимо командовал Чернышев, и, как по мановению волшебного жезла, на ногах Норкина оказались валенки.
— Оставите вы меня в покое или нет? — взревел Норкин.
— Еще кружечку выпейте.
Норкин залпом осушил вместительную кружку водки, придержал дыхание, поморщился и уже спокойнее спросил у радиста:
— Связался с Гридиным?
— Готово, товарищ капитан третьего ранга. Норкин выхватил у него микрофон и закричал:
— Гридин, Гридин!.. Какого дьявола ты там мудришь? Я требую от тебя конкретной обстановки, а ты мне шлешь обтекаемую фразу!
Гридин, должно быть, начал говорить, оправдываться, так как Норкин замолчал и лишь сопел, зло глядя на микрофон, — Я тебе, когда вернешься, голову оторву! — наконец отрывисто бросил он, выпрямился и тут увидел Никишина — Пришел? Все в порядке? Где Чигарев?
— Комдив болен, — ответил Никишин, вытягиваясь. — Который день лежит.
Норкин поморщился. Жалко Чигарева. Сырая осень, резкая смена температуры в кубрике — все это доканало Володю. Слег окончательно. Нет, видно, не командовать дивизионом с таким здоровьем.
— А я прибыл, все в порядке.
— Немедленно сниматься. Сам с тобой пойду.
Темно. Почти не видно узких разводий между льдинами. Катер фактически идет на ощупь. Впереди — кажется, за следующим поворотом реки — отрывисто лают пушки бронекатеров. Стреляют редко, будто огрызаются.
— А у меня, Саша, Ястребкова убило, — неожиданно говорит Норкин. — Понимаешь, прямое попадание, взрыв боезапаса — и нет катера!.. Меня в воду сбросило… Пошел прикурить на камбуз, а он в это время и влепил…
Никишин не отвечает. Соболезнование не поможет. Да и непонятно, удивляется или радуется комдив, что именно в это время ушел прикуривать.
— А Лешенька-то мой тоже отчудил! — перескакивает Норкин на другой волнующий его вопрос. — Я у него запрашиваю по рации как дела, а он отвечает: «Деремся по-гвардейски!» Каково, а? Догадывайся комдив сам, то ли он погибает, то ли побеждает по-гвардейски!
Дверь рубки распахивается, появляется Жилин и торопливо говорит, забыв даже спросить разрешения обратиться:
— Товарищ мичман! Лед забил приемник! Мотор перегревается!
Какая-то шальная мина рвется, ударившись о лед.
— Нельзя останавливаться, Жилин, нельзя, — говорит Норкин. Он не кричит, не приказывает, но тон у него такой, что сразу становится ясно: останавливаться нельзя.