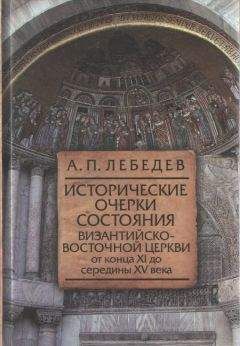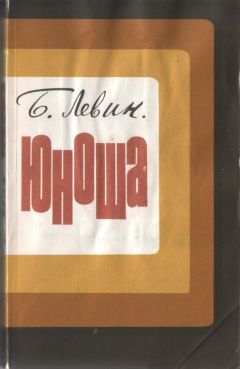Александр Морозов - Центр
Щусев сначала прочел — и, как всегда, превосходно, — историко-философскую поэму о зарождении государственности и о первых государствах, начиная с Урарту и Вавилона. Кончил поэму, и как ток выключили, под напряжением которого сидели, не шелохнувшись, слушатели. Чуть некоторый только вздох прошелся по залу, не до обсуждения еще было, ожидали, что Гена продолжит еще читать и читать. Но попросил слова и сам тут же и взял поэт-песенник, друг Ледогорова, недаром, знать, называвший себя нестареющим комсомольцем. Афиш-то никаких об этом вечере не выпускалось, но, значит, имелись у него свои каналы информации о молодежных вечерах, держал, значит, руку на пульсе, не только прознал о чтении, но и прийти не поленился.
— Я, товарищи, начну с самого начала, — привычно скаламбурил поэт. — О чем эти строчки? Какие такие воспоминания?
А надо сказать, что Щусев начинал с цитаты из книги поэм Владимира Луговского «Середина века»:
— Хочу прохладного, тугого сна.
Хочу, чтоб мир был непреклонным, чистым.
Воспоминаньями не мучь меня.
Он не объявлял специально, что это эпиграф, а просто выделил эти строки паузой, после которой и читал уже собственное свое произведение. Во избежание ненужной путаницы Карданов с первого ряда и подсказал:
— Это эпиграф. Из Луговского. — Рассчитывал, что тем дело и разъяснится. Но выступающий, раз уцепившись, уже не мог, да и не хотел перестраиваться на иной зачин.
— Какие все-таки воспоминания могут так уж мучить столь юного сочинителя? Что он мог уже повидать в жизни? Иное дело, когда это произносит умудренный, находящийся на склоне лет поэт Луговской. За ним, как говорится, войны и революции, вся история, можно сказать, нашей страны. А тут? Ведь вы, молодой человек, еще и в армии не служили. Ну и какие же такие в о с п о м и н а н и я?
Карданов по выражению лица Щусева видел, что тот не намерен отвечать, полагая, как всегда, что есть уровень стихов и что ему должен соответствовать определенный уровень разговора о них. Но Карданов, хотя, как почти все они, и писал стихи, не был чистым поэтом, а еще, и даже прежде всего, полемистом и агитатором. Он и ответил песеннику, не на него, впрочем, а на аудиторию работая, что, во-первых, поэт, его лирическое Я, вовсе не тождественно Я эмпирическому. А во-вторых, что даже и данное эмпирическое Я, выступающий тут перед нами молодой поэт Геннадий Щусев, и его гражданственное сознание — это совсем не табула раса, как, видимо, полагает предыдущий оратор. И его в о с п о м и н а н и я, а точнее говоря, п а м я т ь, несет на себе груз памяти отцов, а если уж исходить из текста поэмы, то и всей грандиозной драмы всемирной истории. И такой эпиграф служит здесь как тезис-парадокс, после которого и разворачивается как раз одно из этих мучающих поэта общечеловеческих воспоминаний о периоде, когда кочующие племена охватывались обручем первой государственности. Память о родовспомогательных муках возникновения цивилизации.
Больше пока никто выступать не стал, и Щусев еще почти два часа читал свои стихи, а поэт-песенник потихоньку прошел к выходу и покинул несчастливое для него поле брани.
Это была, конечно, еще не цепочка в биографии, а так, звено. Но уж было бы звено, а там… пошло и пошло цепляться. Одно за другое.
Как-то в конце первого курса — в середине апреля это было — Карданов оказался в клубе самодеятельности МГУ, что на углу улицы Герцена и проспекта Маркса.
Он поднялся на второй этаж и вошел в основной концертный зал клуба, где проходил литературный вечер, и даже не просто, а вечер-встреча с иностранными студентами университета. Карданов послушал несколько выступлений, но, когда вслед за частушками и русской плясовой прозвучал со сцены Маяковский, и прозвучал так себе, ни шатко ни валко, что само по себе для этих стихов было недопустимо, он загорелся одной идеей и прошел за кулисы. Витя решил прочесть сначала Маяковского, но по-настоящему, то есть так, как он это понимал и не раз успешно испробовал на различных аудиториях.
— Разве так читают? — буркнул он на ходу полузнакомой третьекурснице, ведущей концерт, которая стояла за кулисами перед выходом на сцену и не успела ни задержать его, ни даже что-то ответить. Виктор начал без объявления: «Ведь если звезды зажигают…», затем пошло «Хорошее отношение к лошадям» и отрывок из «Облака в штанах».
Зал аплодировал неистово.
Карданов, взвинченный чтением и аплодисментами публики, заскочил за кулисы и заметался перед ведущей, как тигр в клетке.
— Выйди хоть, поклонись, — усмехнулась она.
— Сейчас я им Щусева прочту, — нервно и как бы мимоходом проговорил он.
— Это какого еще?
— Надо знать, надо знать, — не отвлекаясь на собеседницу, а уже концентрируясь перед повторным выходом, бормотал Карданов.
— Нет, ты подожди. Я должна знать. Там же иностранцы, — указала она на зал и преградила Вите дорогу.
— Вот сейчас и узнаешь.
— Нет, прочти сначала здесь. Ну хотя бы начало.
Карданов не стал качать права по типу «Да кто ты такая» и быстро отчитал ей кое-что из Щусева, и уже хотел рвануться мимо нее на сцену, но она успела снова стать перед ним, быстро проговаривая:
— Нет, это не то, этого я не могу разрешить.
— Да кто ты такая? — пришлось все-таки начать Карданову, но тут взял его под локотки и повел от сцены, от греха подальше случившийся рядом Николай Степанович Мордовцев, румяный такой, упитанный блондин, преподаватель фонетики, сам только в прошлом году окончивший университет. Заговаривая Карданова на ходу, отвел Коля Мордовцев его на выход, и они вместе вышли на улицу, импозантный блондин пыхтел от возбуждения, как бы восприняв в себя накал только что разыгравшейся сцены, повторял бессмысленный и непререкаемый аргумент:
— Там же иностранцы… Зачем ты так? Ну… понимаешь, не всегда и не везде…
На выходе они остановились друг против друга, и Мордовцев, как бы давая выход недоигранной ситуации, предложил:
— Ну, хочешь, почитай этого Щусева мне. Кажется, ведь я тоже кое-что в поэзии понимаю?
И Карданов почитал. Прямо на улице, у входа в клуб.
А через полгода, перед зимними каникулами, группа Карданова — славянское отделение, сербско-хорватский язык и литература — должна была пройти собеседование в деканате перед десятидневной поездкой в Югославию по приглашению Загребского университета. Заходили в комнату по одному, чтобы минут через пять уже и выйти с сияющей улыбкой, кивая остальным: «Ничего, мол, там страшного», и те, кто еще не заходил, все больше склонялись к мысли, что собеседование есть пустячок и формальность. Но когда вызвали Карданова и задали для начала пустячковые и формальные вопросы, он обратил внимание на Мордовцева, который перешел со своего места к декану и зашептал тому что-то на ухо, абсолютно недвусмысленно поглядывая при этом на Витю. Виктору предложили подождать в коридоре. А через десять минут вышел весь покрасневший преподаватель югославской литературы, у которого Карданов писал курсовую и который должен был возглавить их группу в поездке… Он вышел аж весь взмокший и сдавленным голосом объявил, что Карданов не едет.
Сгрудились вокруг Вити и загудели:
— Это что же делается? Пойдем в партком на Ленгорах… в ректорат… Этого так не оставим. Если Кардан не едет, все не поедем…
Из кабинета декана вышел Мордовцев и, пролагая дорогу респектабельным брюшком, прошагал, скашивая на растерянного, прилагающего все свои силы, чтобы не выглядеть растерянным, Карданова, адски моложавый свой взгляд, как бы говоривший: «Вот так-то, брат. Любишь кататься — люби и саночки возить».
Коля Мордовцев держался среди студенческой братии как свой парень, и Карданов понял в тот момент, что таковым Коля-Николай и пребудет — до гробовой доски… ч ь е й - л и б о.
А кончилось все обыкновенно: Карданов не поехал, а все поехали. Он мог бы тогда закрепить их первый эмоциональный порыв, оформить его и возглавить поход хоть до дверей того же ректората или парткома, но… Хлопотать за себя? Ставить под удар других, когда речь шла уже не о стихах Щусева, а о поездке Карданова? И он устранился, отшутился, дал ребятам выйти из игры, не теряя при этом лица, заметил, что на Адриатике в январе не сезон, и вообще пляжи там не ахти, не то, что на Черноморском побережье Кавказа.
Вся жизнь была впереди, он не захотел давать бой, когда ставкой… Тут Мордовцев угадал, заранее, наверное, предчувствуя, что Карданов не станет биться за справедливость… по отношению к самому себе. Не то было поле битвы, и Карданов вышел из игры.
А через пять лет он второй раз вышел из игры, восприняв аргументы Ростовцева о том, что не время и не место… и так далее.
— Надо было сразу, надо было сразу… — твердили ему тогда Гончаров и другие. Да что сразу-то? Что? Да уж, наверное, хоть что-то, пока они были сильны решимостью друг друга, лихорадочно спешащей юностью, спешащей на свидание с судьбой.