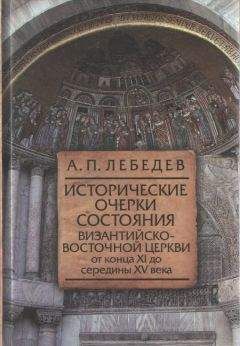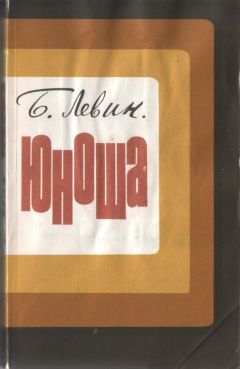Александр Морозов - Центр
Для Щусева с его данными трибуна у Вити, вошедшего во вкус режиссуры, имелась и еще одна нескромная идейка: подвигнуть его на исполнение главной роли в трагедии Владимира Маяковского «Владимир Маяковский». Собственно, уже он его и подвигнул на это. Да и роли учить не пришлось. Щусев и так знал наизусть почти весь текст, а Пролог — «Вам ли понять, — почему я, — спокойный, — насмешек грозою — душу на блюде несу — к обеду идущих лет. — С небритой щеки площадей — стекая ненужной слезою, — я, — быть может, — последний поэт», — этот Пролог он знал и читал неоднократно на разных «бритых» или «небритых щеках площадей», у памятников Пушкину и Маяковскому, открывая им обычно чтение собственных стихов. И читал так, с таким достоинством и отточенностью, что становилось ясно: поэтический гений революции в данном, конкретном случае не напророчил. Не сбылось. Не последним он оказался поэтом, потому как есть и еще, по крайней мере, один: Геннадий Щусев.
Ребята из газет завели, конечно, свое, почему бы Карданову не привести свою труппу в какой-нибудь театр, ну, примкнуть хоть к какой-нибудь студии, если уж бюрократических препон опасается. Но Карданов — недаром же и в школе еще оригиналом считался — ответил им просто и ошарашивающе:
— А зачем? Если бы дело не шло, а то ведь оно шло. Чего же еще надо? Насчет Чапека буквально через месяц — милости просим на премьеру. Ну а насчет «Владимира Маяковского», — Гена, может, почитаешь? — Собственно, к тому все и шло, ребята знали, что это — чтение Щусева — из всех их козырей наисильнейший.
И конечно, так все и произошло, как и на разных встречах, случавшихся и до этой, — споры спорами, и недоверие, и скептицизм, а то и резкое неприятие, — с чем только они не сталкивались, но волшебная сила искусства, она ведь недаром все-таки волшебная. А то, что здесь перед ними демонстрировало себя именно искусство, нечто серьезное и достойное, не говоря уже о том, что и гордое, смелое — вбезогляд, — это любым оппонентам становилось ясно с первых же звуков насыщенного щусевского тембра, сразу же заполнявшего — перекрывавшего даже — любое пространство, среди которого он раздавался. И как только он начал: «Вам ли понять, — почему я, — спокойный», — а потом после Пролога еще и еще пошли стихи, и свои, и Аполлона Шундика, и, напоследок, короткое, которым всегда он и заканчивал, Саши Петропавловского: «Мне легок груз семнадцати апрелей», — так и присмирели скептические журналисты, прослушали, как и все, захваченные полностью, чуть ли не с раскрытыми ртами.
И сразу после чтения стали прощаться, что-то такое обещая и планируя, что надо, мол, встречаться, что здесь все непросто, и надо разбираться, и что может получиться большая хорошая статья.
Уговорились о повторной встрече через неделю, но статья вышла на следующий же день и действительно большая — так называемый подвал — большая и подробная, но отнюдь не хорошая. Упоминались все те же лица — Щусев, Карданов, Гончаров, Шундик, Петропавловский, Клюев — почти каждому было посвящено по одному, по два абзаца, но это писало уже не перо, а как будто помело взмахами лихими стремилось быстренько и веселенько, с посвистом назидательным вымести начисто охоту ко всему самостоятельному. Несанкционированному. А потому и вызывавшему искреннейшее изумление автора: да как, мол, такое вообще возможно в нашей давно же ведь налаженной и пятьсот раз организованной жизни? Клюев, разумеется, изображался матерым безбилетником, зайцем лопоухим, словом, лопушонком таким, скачущим неизвестно почему от дома и семьи, от милиции и контролеров, от… «Не пора ли зайца за ушко да на солнышко?» — бодро благодушествовал автор статьи.
Но дальше уже, идя по головам, тон его матерел и взвинчивался. Карданов, разумеется, назван был маршалом без армии. Не мог здесь автор пройти мимо такой находки и не блеснуть оригинальным, свежим образом. Приводилось почему-то мнение одного театрального деятеля, аж двадцатилетней давности, о неких, почти непреодолимых трудностях, с которыми он столкнулся, пожелав однажды поставить пьесу Чапека «Средство Макропулоса». Пусть и пьеса-то упоминалась другая, а не «Белая болезнь», но все-таки речь шла о Чапеке, и, следовательно, непреодолимые трудности — на это уж, так значит, и обречены все, кто только не коснется драматургии Карела Чапека. Ну а тут… ха-ха, смешно сказать, недоучившийся или невыучившийся имярек, в общем как-то так выходило по статье, что Карданов чуть ли читать-писать едва научен, и ему ли браться уродовать и дискредитировать наследие классиков? Да еще и других, молодых и доверчивых, в это дело вовлекать? Тут, правда, видна была на глазок неувязочка, ибо если маршал — без армии, то о каких же д р у г и х идет речь? Ну да насчет неувязочек — своя рука владыка: чего хочу, того пишу.
А с поэтами тут уж дело и вовсе шло проще и веселее. Приводилось по паре строк из Щусева и Петропавловского, и следом задавалось универсальное: «Что это? О чем здесь идет речь? Кому это нужно?» Насчет Петропавловского задавался и еще один, ликующий в своей обличительности вопросец: «И это человек, который один задумал подменить собой целую систему преподавания литературы в школе?»
Ничего, конечно, Саша Петропавловский отменять или подменять не собирался. Но не мог он, к сожалению, и задать автору встречный вопрос: «Откель нагреб ты этакую дрянь и сор, да еще и вывалил на меня неисчислимым, все погребающим тиражом?»
Прибежали к ребятам журналисты, с которыми они встречались только вчера, прибежали с газетой на руках, встревоженные, раздосадованные, а если поприглядеться, то слегка и напуганные. На словах они открещивались от статьи, не знали, мол, не ведали о готовящейся бомбочке редакционной, да их никто и не обвинял, и на самом деле не знали, иначе зачем бы встречу вчерашнюю устраивали? — на словах негодовали и обрушивались на тон и стиль внезапной, как безмолнийный гром, публикации, на форму ее и содержание. Быстро говорили, перебивая друг друга, что так это дело не оставят, что надо бороться и что у них есть свое мнение. Но в самой их заполошности и какой-то перекошенности проглядывало другое: ну и ну, вот ведь в какую историйку могли бы влипнуть.
Ребята обещали журналистам не унывать, одобрили их намерение побороться, и… на том они и расстались. И больше уже никогда и нигде не встречались. И никогда и нигде не обнаружилось уже никаких следов борьбы этих молодых и горячих корреспондентов за правое дело, левое искусство и за собственное мнение.
Так и остался этот газетный подвал единой на всех блямбой, просто и надежно припечатавшей: вздор это все, чем занимаются эти неуправляемые ребятишки, недоросли и недоучки, вздор, наполовину подозрительный, а наполовину и прямо вредный. И подлежащий, стало быть, пресечению.
Впрочем, ребятишки и вообще-то пошли на контакт с корреспондентами больше из любопытства, чем в ожидании какого-то серьезного результата или какой-то поддержки. Они и сами вполне самостоятельно держались и увлекались вперед невероятной своей молодостью и вихревыми токами времени. Не ждали они ничего реального от контакта с миром несокрушимой и опасливой серьезности, поэтому и не придали особого значения тому моменту, когда контакт лопнул, почти не начавшись. «Да что из этого может получиться?» — так говорили заранее многие из них. Ну вот ничего и не получилось. А тому обстоятельству, что получилось, но со знаком минус, — потолковали, погудели взбудораженно недельку — не придали должного значения да и пошли дальше.
Словом, гром грянул, но мужички не перекрестились. И зря, наверное. А может быть, и не зря. Ведь, как утверждал молодой Карданов: да кто вообще может что-нибудь знать?
А между тем тон по отношению к ним был уже взят вполне определенный. И на разных своих взвихренных маршрутах они то и дело стали натыкаться на этот определившийся тон и определенное отношение.
Статья в журнале «Юность» об экспедициях Клюева и записанных им песнях просто-напросто не появилась. В районной библиотеке, где собирался литературный кружок, сменился заведующий. Как и почему — ни до кого толком не дошло. Карданову сообщил только Саша Петропавловский, что прежний заведующий, увлекающийся литературой и некоторыми вопросами педагогики, такими, например, как восприятие детьми поэзии, почти молодой человек лет тридцати, устроился литсекретарем к одному известному детскому писателю и даже переехал жить к нему на дачу в Переделкино, где надеялся наладить ту же работу, что велась Сашей в его библиотеке. А новый, который оказался старым, заслуженным работником системы просвещения, ни в какие договоренности с Петропавловским входить не собирался. Таким, внешне простым, а в общем-то часто встречающимся в жизни манером и получилось, что собираться кружку стало негде.
С самим Кардановым и готовящейся постановкой пьесы Чапека обошлись несколько тоньше. Сотрудники Литературного музея приватным образом сочувствовали Карданову и в порыве откровенности сообщали ему, что считают разгромную статью за тяжелый бред сивой кобылы. И однако ж нашлась у них ставка, точнее полставки, на которую был приглашен шустрый, с носом под спелую сливу и вообще обитый жизнью, как дерматином, режиссер. Откуда он и какими творческими заслугами увенчан — не уточнялось, а имя его никому ничего не говорило. Но то, что был он из племени режиссеров, в этом вроде бы сомневаться не приходилось. По тому, как зашустрил он со страшной силой, привел с собой с десяток неведомо откуда взявшихся не то любителей, не то актеров не у дел, перешерстил состав труппы, роль Маршала он поначалу сильно урезал, а потом и намекнул Карданову, что эта роль у него не получается. Вернее, получается, но слишком сильно, а этого не нужно — не те акценты, ну и так далее. Когда же Виктор предложил ему прослушать готовые куски из «Владимира Маяковского», он никак не мог взять в толк, о чем идет речь, и и вообще, как это возможно, чтобы и автор был Владимир Маяковский, и трагедия его называлась точно так же? Всерьез уверял, что Щусев с Кардановым крупно чего-то напутали. Когда же принесли ему первый том из Полного собрания сочинений и показали текст, то он и вовсе обескуражил, отечески этак подрезюмировал, явно закрывая тему: «Ну, знаете ли, это все несерьезно».