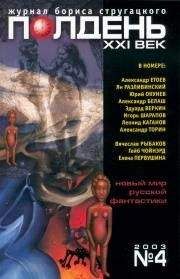Игорь Сюмкин - Полдень следующего дня
Савин эту шизу не воспринимал, она была ему просто неприятна, но ничего не оставалось, как, показав Леке за спиной Никитина кулак, встать рядом с «самим». Он с трудом подавлял приступ чрезвычайной неприязни к себе, ибо Савину очень хотелось тогда кое-что сделать, и знал, что решимости не хватит. А как хотелось ему в ту минуту вышвырнуть за порог обоих, всяк по-своему что-то из себя ломавших за счет его, Савина, нервов.
Так они и стояли рядом, покуда жена Никитина, уже сидевшая в машине, не посигналила. «Сам» невесело покачал головой и, неопределенно усмехнувшись, вышел. Провожая его к машине, Савин напряженно гадал, кому эту усмешку адресовать: Сальвадору Дали или нетерпению жены, сомнительному художественному вкусу и хамскому поведению Леки или отсутствию у него, Савина, отцовского авторитета, черт бы этого Никитина побрал! Шишка все-таки, меценат… Возвращаясь, он еще на лестничной площадке услышал спокойный, насмешливый голос Леки:
— …заискивает перед каким-то подпившим боровом, мнящим из себя отца отечества…
— Лека, ну, разве можно так? — мягко и неубедительно урезонивала его Нина.
Это сахарное: «Лека, ну разве можно так?» — Савин слышал и когда сынуля по младенческой беспомощности еще мочился в ползунки, и когда она возвращалась с родительских собраний в техникуме, где учился Лека и преподавала сама и где коллеги всякий раз склоняли ее за систематическую неуспеваемость дитяти. Нина там со всеми перессорилась…
— Тебе показалось… Папа ничуть не заискивал, просто был гостеприимен. И Никитин совсем-совсем неплохой дядька. Другое дело — его дура-женушка! — При упоминании Никитиной голос Нины на мгновенье обрел холодность и жесткость. — Тебе надо было выйти, немножко с нами посидеть, покушать пельмешков, — продолжала она. — И у Никитина не было бы повода тебя беспокоить. А ты, глупенький, зачем-то морил себя голодом и сейчас давишься холодными… Давай отварю тебе свежих?
— Ма, ты так обо мне заботишься, а не знаешь, что полезней не горячая, а теплая, поостывшая пища, — подделываясь под излишне участливый тон матери, передразнил Лека. — Эти не холодные, а именно остывшие. Пусть горячие мнут Никитин с батюшкой! Не так уж много радостей в их сверхсознательной жизни.
«Батюшка твой — ладно, цену себе знает и шибко не переоценивает… А вот «этот боров» на Одере пятнадцать осколочных ранений за раз в твоем возрасте получил…» — мысленно заступился тогда за Никитина Савин, по-прежнему стоя перед дверью, отчего-то вдруг заробев, не решаясь войти. В отсутствии у Леки великодушия он убеждался уже не впервые и в сердцах называл его про себя недоношенным. Лека действительно родился на месяц раньше срока, потому, наверное, и не хватало ему кой-каких природных человеческих качеств, недобрал их. В том, что великодушие — начало природное, Савин, глядя на младшего своего, не сомневался. Да и бабушка, черт бы ее побрал, лепту своим воспитаньицем внесла.
Савин поерзал, устраиваясь в кресле поудобней. Лежавшая у него на коленях тетрадь с Лекиным опусом (под презлющим, кстати, названьем: «Сказ о моем отце и деле, которому служит») соскользнула на пол. Савин, не вставая с кресла, потянулся за ней, поднял… От внезапно набрякшей в висках и отдавшей в затылок боли неприятно передернуло. Несколько секунд он просидел неподвижно, прижав ладонь к затылку, в напряженном ожидании нового приступа, но на сей раз обошлось. За стеной привычно подкалывали друг дружку (и его не забывали) жена с матерью…
— Твоему мужу опять выпадают пустые хлопоты, — сообщает мать результаты своего извечного гаданья. Тон ее был двусмыслен. Для нее вся жизнь Савина — пустые хлопоты. Он знал это.
— Этими картами играли и верить им нельзя, — защищает и защищается Нина.
— Пустые хлопоты, казенный дом и интерес к бубновой даме… Масть, как видишь, не твоя! — продолжает свое мать.
— Какая вы все-таки язва!
— Сибирская… Слышала про такую?
— Дама известная… Я одного не пойму… Вы никогда не зовете Матвея иначе как «твой муж». Можно подумать, что вы ему не мать, а теща… Почему вы вечно над ним подтруниваете, видите лишь его слабости? У кого их нет?
— У ваших детей.
«У ваших детей…» — мысленно передразнил ее Савин. Сделал он это скорей машинально, поскольку давно уже перестал обижаться на ее выходки. Выходки взбалмошного, страдающего нетерпимостью ребенка под семьдесят лет. Про себя он величал ее Дерзкой. Если собственного сына она считала рохлей и законченным неудачником, то внуков уважала прежде всего за упрямство, в котором та братия даже ее превзошла. Что-что, но упрямство и чувство противоречия всему и всем старуха в Юльке и Леке воспитала.
Всю жизнь она шарахалась из крайности в крайность. Савину довелось прочесть одну из тетрадок ее дневника, датированную двадцатыми, в бытность Дерзкой медкурсисткою. Психологически дотошные, яркие наблюдения соседствовали там с такими архиглупостями, непоследовательностью, что он диву давался. Одно время она состояла в обществе «Долой стыд!», была ярой, искренней (на неискренности Савин не поймал ее ни разу в жизни и многое за это прощал) поборницей «немещанскнх» отношений, а через полгода стала активисткой всеобуча, еще более ярой, если не сказать оголтелой. Бывших соратников по пропаганде «немещанских» отношений она назвала в дневнике — наверное, не только в дневнике — глашатаями грязного белья…
Собственно и сюда-то переехали из Челябинска в тридцатых годах с бухты-барахты, очень даже вдруг. Измотанную бесконечными склоками с «ма танте», у которой квартировали, Дерзкую (тогда, впрочем, она была еще мамочкой, да и Савин — не «твоим мужем», а просто Мотькой, шестилетним и толстым) соблазнили в облздраве обещанием немедленно предоставить жилплощадь, и она дала согласие на перевод.
Так появился в поселке свой зубной врач, и у страдальцев, нелепо стягивающих перекошенные лица платками, отпала необходимость мотаться за исцелением в Челябинск.
Первые две недели, пока обживались в странной десятиугольной конуре огромной коммуналки, Мотька выслушал немало противоречивых мнений матери о их переезде, восторженных, но мгновенно переходящих в раздраженные, и наоборот. Скажем, не доглядела она за кипятившимся на примусе молоком. У нее хватило выдержки, сняв его, не ответить на ворчанье соседок по поводу запаха, плотно закрыть за собой дверь и только потом, подхватив Мотьку на руки, прижав к себе, излить ему шепотом, что на перевод из «губернского города» в «уезд» (зная, что Мотька еще мало что понимает, она порой позволяла себе словесно наедине с ним повольничать) могла согласиться только такая идиотка, как она. Поселок мать называла дырой, угольный разрез — мерзкой прорвой, то есть словами, смысл которых до Мотьки, хоть как-то, доходил, а сограждан даже не по-русски… карбонариями. Однако как ни ругалась она известными и неизвестными сыну словами, кончались ее излияния всегда одним: зато теперь, хоть скверная, но своя крыша над головой…
Мотьку же мало расстроил переезд в «эту дыру». Правда, не было теперь рядом соседа Сашки, с которым у них именины праздновались в один день, зато в новом детсаду (тесовый барак, действительно, был новым, желтели его стены очень нарядно) давали добавку. Не очень вкусную, но сытную кашу со смешным названием — полба. В обед, после того, как все дружно управлялись со вторым, коротко стриженная, вся в веснушках, Антонина Ивановна (мать удаляла ей зуб и назвала выдержанной) приносила из кухни большую кастрюлю и спрашивала ненатурально грозным голосом, взяв в руку половник:
— Ну, братцы, кому по лбу?
«По лбу» хотели все. Плохим аппетитом в те, не особенно сытые времена дети не страдали.
Еще здесь был разрез, который мать в раздражении всячески поносила, а Антонина Ивановна, отличавшаяся нравом на редкость ровным и добродушным, говорила про него: гордость нашего поселка. Она часто водила их туда на прогулку. Когда Мотька увидел эту ямищу впервые (экскаваторы на дне казались игрушечными, по ступенчатым, неровным бокам, извиваясь, ползли тени облаков), ему стало страшно, отступил на несколько шагов.
— Не бойся… Другие же не боятся, — сказала Антонина Ивановна и снова подвела к обрыву.
Мотька крепко держался за ее руку, но глазел вниз с любопытством, не находя там ничего общего с «мерзкой прорвой». А вскоре он и вовсе стал называть разрез по-своему. В солнечный, теплый после нескольких суток сильных морозов день они снова пошли к разрезу. На этот раз ямища была почти до краев полна густым, белесым туманом, снизу не доносилось ни звука. Мотька слышал в сказках про молочные реки — кисельные берега и выдал, отталкиваясь от сего: туманное озеро — грязные берега.
— Это, ребята, инверсия[3], — невесело и не вдаваясь в подробности, пояснила Антонина Ивановна.