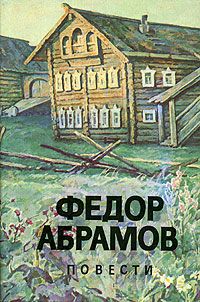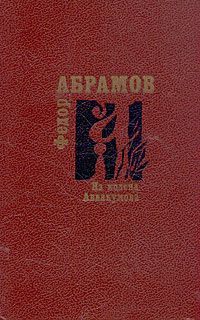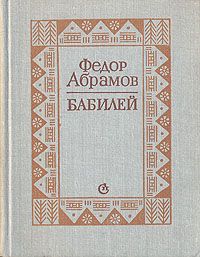Федор Абрамов - Мамониха
– Будет, будет вам, петухи! – К ним подошла Полина. – Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты, были.
– Понял, как умные-то люди на это смотрят? – Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: – Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю Мамониху распушу.
– Нет, нет, не надо, – сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.
– Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, – Геха кивнул на могучий гусеничный трактор, густо, до половины кабины заляпанный грязью, – моменталом сделаю.
* * *Геха выставил две бутылки «столичной» – остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь – тоже бутылкой хлопнула.
Где, когда она раздобыла это добро – на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.
И еще Полина сразила Геху своими нарядами. Всё по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.
По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори – гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!
Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.
– Ну, как говорится, будем здоровы, – сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода.
– Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, – сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.
Полина (она, конечно, взялась за дело – бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:
– Ну, а насерьез, без трепа?
– Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!
– Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь – сколько возьмешь?
– Сколько? – ухмыльнулся Геха.
– А тысячи две с половиной – самое малое.
– Тю-тю! Сдурела баба…
– Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.
– А мы вот таких не видали, – сказал Геха и хлопнул Клавдия Ивановича по плечу. – Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?
Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его елеем пролились на сердце.
– Ладно, – сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику – фанерному ящику из-под конфет, – пей мою кровь! Еще сотнягу накину. Только ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.
– Девятьсот, – сказала Полина.
Пошли страсти-мордасти, потел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться – красные пятна пошли по лицу.
Наконец она и вовсе сорвалась:
– А ты чего сидишь как именинник?
Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:
– Думаю, действительно надо…
– Да чего надо-то? – еще пуще распалилась Полина.
Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:
– Бабушка Яга, Бабушка Яга!
Клавдий Иванович глянул на деревню – баба Соха.
Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над ржищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.
Но что это? Старуха вдруг повернула назад.
Клавдий Иванович закричал:
– Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?
– Не надрывайся, не придет, – сплюнул Геха.
– Да почему?
– А потому, что там, где я с МАЗом – ей дороги нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.
– Не говори ерунду-то.
– Ерунду? Да ты что – в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила?
Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила… А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.
– А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевьм усом прошелся – весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Дак с чего же тут будет птица жить? Кусты-то, и те скорчились. Листы, как тряпки, висят…
– Ай-ай, опять слезы по кустикам. Дались тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась – ну, в каждом стишке плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза – ах, березонька, стой, березонька, свет очей… А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты – кустики…
– Да я не о кустиках, а о Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!
– А кто довел-то, кто? – резко, в упор спросил Геха.
– Кто-кто… Думаю, разъяснений не требуется…
– А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!
– Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!
– Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий… Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера… Ездит вашего брата – каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо… Геха-маз загубил… Да ежели хочешь знать, дак только благодаря Гехе-то-мазу тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна… Да не привези я дров – зимой, как тараканы, замерзнут…
– Ну, ну будет, – воззвала к миру Полина. – Худо вам – под рябинкой сидим?
– Нет уж, выкладывать, дак выкладывать все, – с прежним запалом заговорил Геха. – Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает – крестит: вернусь аль нет. Толька Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса – теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?
– Понятно, понятно! – сердито сказала Полина. И у нее кончилось терпенье. – В одной деревне выросли, а кроме лая ничего от вас не услышишь.
– А и верно, мы не в ту сторону потащили, – моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: – Ну дак что-ударили? А то ведь я могу и передумать.
– Чего передумать? – переспросил Клавдий Иванович.
– Да насчет твоих дров.
– Папа, папа, не продавай!
Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:
– И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда, по-твоему? Так?
В наступившей тишине вдали, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.
– Дак что же – отбой? – спросил Геха, обращаясь к Полине.
Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.
И тогда Геха сказал:
– Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.
* * *Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.
Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о свежей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.
И вот какой характер у человека – даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.
Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.
Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе.
Задами. Заново натоптанной тропкой.
С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку – все поймет, не осудит. И он разматывался.
Обо всем без утайки говорил: о своем житье-бытье с Полиной, о Лиде, о Гехе.
Но вот что было удивительно! Как только он заводил речь об отцовском доме – а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, – так баба Соха отводила в сторону глаза.