Борис Мегрели - Без всяких полномочий
С тех пор прошло четыре года. За эти годы я ни разу не виделся с матерью. Но я знал, что, постучись я к ней, все будет по-прежнему, она немного поплачет, достанет из пахнущего лимоном буфета графинчик с настоянной на тархуне янтарной чачей, сласти, и мы выпьем за примирение, и она, простив мою черствость и неблагодарность, будет настаивать на том, чтобы я немедля переехал к ней.
Я шел к машине и думал о матери.
Мать была изгоем в нашей родне. Она стала им с того дня, когда привела в дом Алексея Ивановича Волкова. Тогда я не мог разобраться в ее чувствах и тем более понять их и возненавидел ее жестоко и бессердечно. Я не простил ей измену памяти отца, хотя отца знал только по фотографии. Он погиб под Сталинградом, когда мне исполнилось два года. Мать безмолвно переносила мою ненависть, как переносила ненависть родственников и осуждающие взгляды соседей.
Позже я понял, что мать любила отчима, любила молчаливой и неистовой любовью. Если бы когда-нибудь она сказала мае о своих чувствах, быть может, что-то изменилось бы в наших отношениях. Она молчала, и я ненавидел мать, ненавидел отчима, в общем-то симпатичного человека, ненавидел себя за то, что ничего не могу изменить.
Позже я понял, что мать была бы счастлива с отчимом, если бы не я, отравлявший им жизнь.
Я старался не разговаривать с отчимом, избегал его, а он из кожи лез, чтобы угодить мне, задаривал, отрастил усы в надежде походить на грузина. Наивный человек, он думал этим приблизиться ко мне, не зная, что дети в своей жестокости безграничны. Однажды он схватил меня за ухо и, дыша перегаром, захрипел: «Волчонок! Волчонок! Мать пожалей». Он заплакал, проклиная войну, русских и грузин. Почему он проклинал грузин, я догадался, но почему русских — не понял. Это я понял позднее. Вернувшись после войны в Смоленск, он узнал, что жена вышла замуж за другого. Он провел ночь на вокзале и сел в первый же поезд. Поезд направлялся на юг.
Отчим умер в день своего сорокапятилетия. У него открылись раны в легких, и он истек кровью.
Мать во второй раз надела траур и больше не снимала его.
На мостовой лежала желтая бабка. Очевидно, мальчишки, как и мы в те далекие годы, усевшись на корточки прямо на площади, играли в бабки, и кто-то потерял ее.
Я увидел себя, большеголового, в черных сатиновых шароварах, линялой клетчатой рубашонке и войлочных тапочках, присевшим на корточки на пыльной площади. Тогда она не была асфальтирована и по ней вместо машин ходили ослики, прогибавшиеся под тяжестью хурджинов.
Я услышал легкий цокот копыт и протяжный, мелодичный, словно песня, переклик горцев, будивший утро:
— Мацони! Мацони!
На горцах были яркие, как восточные ковры, носки и круглые черные шапочки.
Тоска подкатила к горлу. Я бы многое отдал, чтобы вернуться в детство. Ведь говорят, что чем дальше детство уходит от человека, тем ближе оно становится. «Как о воде протекшей будешь вспоминать», — мелькнула в голове фраза из «Книги Иова».
Я сел в машину и включил приемник. Какая-то станция передавала записи Фрэнка Синатры.
Было далеко за полночь. Я снова вылез из машины и заглянул в подворотню, в которой исчез Гурам, потом прошелся вверх по улице Энгельса и закурил.
Крыша одного из домов сверкала, словно под лучами солнца, а вдали, на Сололакском хребте, у развалин древней цитадели, где замшелый гранит зубчатых стен с узкими бойницами обильно полит кровью моих предков, стояла грузинка, в левой руке держала чашу, в правой — меч, и свет прожекторов освещал ее, чтобы и ночью все видели символ Грузии. Чаша с вином для друзей, меч — для врагов.
Я вернулся назад. Фрэнк Синатра продолжал петь.
— Давай погромче! — раздался хрупкий голос, и я увидел в открытом окне напротив полусонного мальчика.
Я показал ему бабку.
— Твоя?
— Кто сейчас в эту ерунду играет?! Что за станция? Анкара?
— Наверно.
Мальчик исчез. Через минуту я услышал мужской голос:
— Выключи приемник, сукин сын!
Возможно, это сказали мальчику, но я выключил приемник.
В тишину вкатился шум мотора. Свет фар ворвался на боковую улицу, устремился к дому напротив меня, расплющился на нем, и на площадь въехал «Москвич», в котором рядом с клетчатым пиджаком сидела Нина. Машина остановилась.
— Как выехать на проспект Руставели? — спросил водитель. — А-а, это вы?! Спасибо за шампанское.
— Не стоит благодарности. Развернитесь и езжайте все время прямо. Дорога сама выведет на площадь Ленина.
— Спасибо. Там я уже сориентируюсь. Счастливо.
Еще секунда, и «Москвич» умчался бы, увозя эту рыжую девушку в ночь.
— Чачи не хотите? — с ужасом услышал я собственный голос. Что она обо мне подумает? Драчун и вдобавок алкоголик.
— Хочу! — неожиданно сказал водитель. — Я еще не пробовал чачи. Это виноградная водка?
— Виноградная.
Появился Гурам.
— В чем дело?
— Да вот товарищ, оказывается, никогда не пробовал чачи, — сказал я.
— Так дай попробовать!
— Не на улице же!
Водитель вышел из машины.
— Эдвин Макаров, — представился он.
Представились и мы.
— Я ваш должник, — сказал Эдвин. — Приглашаю вас с Гурамом ко мне в гостиницу.
— Поедем ко мне, — сказал Гурам.
— С удовольствием, — отозвался Эдвин. — Попробуем уговорить даму.
— Как?! У вас в машине дама?! — воскликнул Гурам, и я не мог понять, не заметил он Нину или притворялся. Он заглянул в «Москвич». — Добрый вечер. Здравствуйте. Вы почему от нас прячетесь?
— Я не прячусь, просто устала, — ответила Нина.
— Мы ездили за город, — сказал Эдвин.
— Ну и что? — возразил Гурам. — Мы тоже ездили за город.
Гурам не смог уговорить Нину, и тогда он и Эдвин решили, что отвезут ее домой, а потом мы втроем поедем к Гураму.
Прежде чем сесть в машину, Эдвин осмотрелся вокруг и присвистнул. Он только сейчас разглядел теснившиеся дома с деревянными балконами, мощенные мерцающим булыжником узкие улицы, стекающиеся, как ручейки, к площади. Он взял с заднего сиденья «Москвича» фотоаппарат с блицем и стал снимать.
Я сидел в «Волге» рядом с Гурамом и мрачно думал о предстоящем застолье. Я затеял его, и винить в этом следовало только себя.
— Хороша девушка, — сказал Гурам.
— Ничего, — сказал я. — Зачем ты пригласил этого американизированного типа?
— Девушка понравилась тебе или нет? Не из-за нее ты предложил этому типу отведать чачи, а?
Мы подъехали к «Москвичу», и Гурам сказал Эдвину:
— Езжайте за нами. Я знаю кратчайшую дорогу к дому Нины.
— Что ты затеял? — спросил я Гурама.
— Это мое дело, — ответил он.
Гурам гнал машину по только ему ведомым улицам и переулкам. «Москвич» шел за нами. Через десять минут мы выскочили в Ваке. Нетрудно было догадаться, что мы ехали к дому Гурама.
— Напрасно ты это делаешь, — сказал я.
Он не ответил.
Я не сомневался, что Нина откажется подняться к Гураму и все равно придется везти ее домой. Но, к моему удивлению, она засмеялась, когда Гурам открыл дверь «Москвича» и сказал:
— Кратчайший путь к вашему дому проходит через мой дом.
ГЛАВА 4
Мы сидели в гостиной за длинным низким столом, над которым свисала лампа с медным чеканным абажуром, и закусывали чачу черешней. Нина пила сухое вино, которое нашлось в холодильнике.
На стенах висели сабли, кинжалы, ружья, пистолеты, и Эдвин поглядывал на оружие сначала сдержанно, потом все более откровенно, и я знал, чем закончится ночь, — Гурам снимет со стены кинжал и вручит ему, так сказать, на память, и голый, ничем не прикрытый гвоздь будет нахально торчать на виду у всех, как время от времени торчали другие гвозди, когда у Гурама появлялись новые друзья.
Нина сидела рядом со мной. Преодолев неизвестно откуда появившуюся робость, я обратился к ней:
— Как в Оружейной палате, правда?
Она не ответила.
— Особенно хорош вот тот дуэльный пистолет.
— Еще бы! — сказала Нина. Она, конечно, намекала на мою стычку с Леваном.
Эдвин засмеялся.
Гурам произнес очередной тост. Красочно рассказав трагическую легенду о двух охотниках — один отдал жизнь за другого, — Гурам призвал нас сделать то же самое, если окажемся перед дилеммой — я или друг.
Я отказался пить.
Нина недоуменно взглянула на меня и пригубила вино.
Ну конечно, она считает, что я заядлый алкоголик. Зачем же разубеждать ее? Водка была крепкой и теплой, будто ее выдерживали на солнце, и я почувствовал, как все во мне нагревается, а голова начинает гудеть.
Я больше не боялся напиться и молча пил одну рюмку за другой. Нина для меня не существовала. Между тостами она беседовала с Гурамом о каком-то хирурге. Я соображал туго и мог лишь догадываться, что речь шла о хирурге, который оперировал ее.
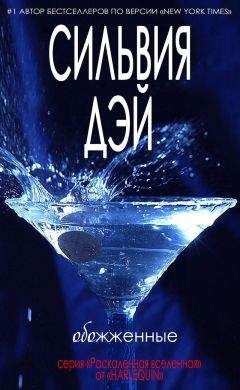
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255498/255498.jpg)
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255683/255683.jpg)

