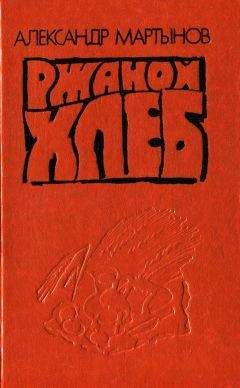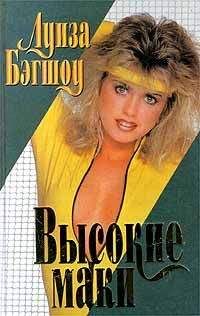Эрик Ханберг - Ржаной хлеб с медом
Лапсардзиене вынянчила и вырастила троих, а волновалась не меньше невестки.
Когда тарелка была пуста, Лапсардзиене заботливо подсказала:
— Возьми, сынок, в поставце вишневое варенье и запей молоком. Я побежала в хлев.
Хенриета вытерла взмокший лоб:
— Сейчас возьмусь за пеленки. Видишь, какую гору наворотила.
Русинь видел. И понимал: Хенриета от недосыпанья валится с ног. Сам-то он плача Кайвы не слышал, спал как медведь, поднимет голову, лишь когда жена, успокоив малышку, свернется калачиком у него под боком. Стоило механизаторам ненадолго освободиться от забот посевной с ее безумной гонкой, они немедленно засыпали, точно в воду проваливались.
Лапсардзиене тянула на себе хлев, ухаживала за огородом, да еще ездила на велосипеде на центральную усадьбу в двух километрах убирать контору и Дом культуры. Часто помогала накрывать столы для колхозных и семейных торжеств. Хенриета одна не успевала переделать все дела по дому. Оттого и накопилась на столе груда немытой посуды.
Русинь умял еще один кусок белого хлеба с вишневым вареньем, выпил пол-литра холодного молока, приложился рукавом рубашки к губам и разразился шумной благодарностью:
— Спасибо, Хенно-Хенни, за ребрышки!
Обежал вокруг стола, обхватил жену, как на качелях, и стал осыпать поцелуями губы, щеки, лоб и успокоился, лишь когда прильнул к вырезу блузки. Ради этого мгновения он бросил поле, товарищей, общий обед, все.
Хенриете порыв мужа был приятен, но в то же время казался несколько неуместным. Поэтому, замахав руками, она стала его отпихивать:
— Шутник ты мой, когда же я посуду вымою?
— Посуду?
В два прыжка Русинь оказался на прежнем месте, схватил левой рукой тарелку и выкинул во двор. Шмель, круживший в оконном проеме, испугался и улетел. Тарелка стукнулась о камешек и раскололась на четыре куска. Вектор взлаял, подбежал, обнюхал и лениво облизнул черепки.
— Ну, ей-богу, шутник!
— Чтобы я позволил тебе уродоваться с грязной посудой! Никогда!
И вслед за тарелкой в окно полетел кувшин. На этот раз Русинь бросал правой рукой, поэтому кувшин упал на пять метров дальше. Вектор опять подлетел к осколкам, обнюхал со всех сторон и весело кинулся навстречу появившемуся в дверях Русиню.
Щебетали птички.
Точно ручейки под косогором, сочились березовые соки.
Сев за день продвинулся вперед на десять процентов.
Хенно-Хенни после родов стала еще соблазнительней.
Кайва писала в пеленки и тренировала голос.
Русинь был доволен жизнью настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому от избытка чувств запустил в окно тарелку, а потом еще и кувшин. А что?
— Я зарабатываю, могу себе позволить!
Зарабатывал Русинь и впрямь хорошо. Закалка, приобретенная на военной службе, враз закинула его на гребень волны, разносящей далеко вокруг его славу. О нем говорили почти как о чуде:
— К тому же не пьет!
Коллеги завидовали Хенриете, экономисту механизированного учета, которой так посчастливилось в жизни. Многие жены всю жизнь сражались со своими полупьяницами, чтобы те не сползли в ранг законченных алкоголиков.
Русинь выбрал себе хорошую жену и продолжал свой род в отчем доме. Только отец до этого не дожил. Первой зарплате сына и то не успел порадоваться.
Русинь после армии вернулся в привычный с детства круговорот. С коровой, грядками, поросятами и бороздами, курами и яблоневым садом. К сожалению, для дома у него почти не оставалось времени.
Кто тянет, на того наваливают. И механизатор тянул. Точно ему одному доверили обмотать земной шар нескончаемой бороздой.
Деньги ломились в дом Лапсаргов через окна, через двери. Заработок Русиня существенно дополняла выручка за молоко, бычков и поросят. Одна премия ложилась к другой.
Слава механизатора вышла за пределы родного колхоза, имя его украшало все агропромышленное объединение района. Своим трудом заявил он о себе и во всесоюзном масштабе. Когда во двор Лапсаргов прикатил подарок — легковая машина, завидовать в колхозе не стали. Только поговорили, посудачили:
— Везет парню Лапсардзиене — лимузин даром достался.
Русинь созвал родственников и друзей. Отпраздновать первый юбилей Кайвы и обмыть лимузин. Стол ломился от яств, традиционных деревенских угощений и копченых угрей, выловленных тут же, в колхозном озере. Русинь разрезал веревки, которыми были обмотаны горлышки бутылок с березовым соком. Пробки выстреливали в потолок еще громче, чем из бутылок с шампанским.
Кто-то снова заговорил о даром доставшейся автомашине.
Механизатор в ответ лишь рассмеялся:
— Даром только вору с неба падает. И то не век веревочке виться. Когда-нибудь сам засыпется.
В этот раз Русинь не отказался от рюмочки. Быстро захмелел и стал рассказывать о своей Кайве, о каждодневном ее быте так, будто открывал людям невиданные ранее чудеса.
Когда все напились, наелись так, что и крошки уже не проглотишь, а хозяйки все продолжали потчевать, Русинь встал и произнес застольную речь. По сути своей это было грандиозное слово благодарности, которое он хотел передать всем, кто был с ним рядом, особенно Хенно-Хенни, подарившей ему такую прелесть, как супердитя Кайва. Еще он сказал несколько слов о лимузине.
— Даром, не даром — дело не в этом. Но если бы государство не расщедрилось, пришлось бы взять несколько тысяч с книжки. А так они остались. Впрочем, я зарабатываю, могу себе позволить.
Тут у Русиня замелькали руки, и в окно одна за другой стали вылетать тарелки. Когда гости пришли в себя от изумления, во дворе успела вырасти солидная кучка осколков. Двадцать одна тарелка вылетела так быстро, что могло показаться: механизатор кончил цирковое училище.
Компания не знала, как быть — следует ли принимать упражнения с тарелками как шутку подвыпившего человека или нужно хватать его за руку. Наверно, они так и сделали бы, потянись Русинь еще за каким-нибудь предметом. Но, расправившись с тарелками, он, довольно улыбаясь, сел. Поскольку вид у гостей был растерянный, Русинь решил поставить точку еще раз:
— Я зарабатываю, могу себе позволить.
Лапсардзиене, в чьей памяти прочно хранились даты и годы, рассказывала после:
— Первую тарелку он бросил в окно двадцать шестого апреля. Я запомнила. На редкость теплый день стоял тогда, и шмель долго висел в окне. Кайве еще не исполнилось пяти месяцев…
Лимузином, что свалился словно с неба, никто больше не интересовался. Все разговоры в колхозе вертелись исключительно вокруг двадцати одной тарелки, которые одна за другой были выброшены в окно. Говорили об этом с уважением:
— Русинь на дне рождения дочери разбил двадцать одну тарелку!
Разговоры, описав круги по колхозу, возвращались к механизатору, вызывая у него приятное возбуждение.
Однажды в обычный день после обычного ужина Русинь сидел за столом и размышлял. Хенриета укладывала спать Кайву. Лапсардзиене хлопотала в хлеву.
Механизатор размышлял о тарелках и людских пересудах. Первый бросок помнила только мать. О втором гудел весь колхоз. Русинь открыл окно, выбросил оставшуюся после ужина тарелку и стал ждать, что будет. Лапсардзиене вошла, не заметила. Жена бросила взгляд на стол и сразу сказала:
— Шутник ты мой неуемный. По будням уже начал бить посуду.
— Я зарабатываю, могу себе позволить.
Хенриета надула губки.
— Хенно-Хенни, разве я пьяница или лодырь? А ты тарелку жалеешь, не даешь выкинуть в окно. Поеду в магазин, привезу новую.
И ведь привез. Тридцать суповых тарелок по тридцать пять копеек штука.
— Шутник мой ненаглядный, ты, ей-богу, становишься странным.
— Курильщик за месяц выкуривает вдвое больше.
Так вот случай с битьем посуды на дне рождения Кайвы перерос в регулярно совершаемое действие. Отныне Русинь бил посуду во время ужина, за обедом, если случалось быть дома. А иногда — во время завтрака. Кучка черепков быстро превратилась в кучу.
Когда в колхоз приезжали представители соседних агропромышленных объединений, их всегда знакомили с Русинем Лапсаргом. Председатель или кто-нибудь из специалистов, сопровождавших гостей, перед встречей коротко объясняли, что он собой представляет, и добавляли шепотом:
— Знаете, у него необычное хобби, внепроизводственное, так сказать, увлечение. На обратном пути заедем к нему домой. Тогда сами увидите.
Справка производила впечатление.
Вначале Лапсардзиене и Хенриета не знали, как себя вести. Заходят какие-то люди. Окинут глазами двор — что может быть особенного в старом деревенском доме — станут возле кучи черепков и пялятся на разбитую передовиком посуду. Слушают, как он рекордами высекает свое имя на скрижалях почета. Рекорды, разумеется, были, но давались нелегко. Русинь изматывал себя до последнего. Иной раз поздно вечером только и хватало сил, что выкинуть в окно очередную тарелку.