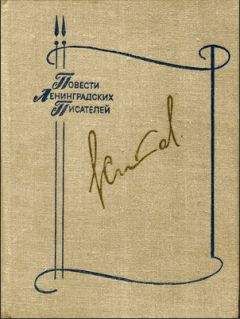Элигий Ставский - Камыши
Я молчал, слыша верезжание сверчков в степи.
Я увидел, как в волосах ее, а потом по лбу ползет муравей, чуткий и осторожный. Он приподнимался на лапках, вытягивая все свое тельце. Он сжимался снова. И так много раз…
Нет, мы не успели открыть причину рака и не увидели себя отлитыми из золота… И теперь, сидя в этом кресле, я мог подумать о том, зачем я летел в Ростов и на что мог надеяться.
И опять воздушная яма. Да, вот когда меня по-настоящему оторвало от земли. Изо рта у меня тоже могла пойти кровь, но рот я закрывал платком. Ну и видок у меня будет в Ростове, когда я сойду с трапа и окажусь перед Костей! Я уже не мог смотреть на плывущий салон и закрыл глаза…
…Она тут же возвратилась ко мне, одетая именно так, как я хотел. Простучав каблучками по доскам, оперлась на мою руку и, улыбнувшись всеми зубами, села рядышком и принялась что-то искать в своей брезентовой санитарной сумке. Потом вдруг порывисто обняла меня за шею и всхлипнула, уткнувшись лицом в мою гимнастерку. Я положил руку на ее круглое, гладкое, как приклад, колено и чуть сдавил его пальцами, чтобы она прижалась ко мне сильней.
«Слушай, зачем ты рискуешь собой и шляешься под пулями? — заорал я, ощутив чистый запах ее дыхания и увидев ее глаза, потому что ракеты и „люстры“ снова повисли над нами, над заграждениями, над минным полем и над рекой. — Или опять скажешь: не страшно?»
«Нет, страшно, — проговорила она. — А ты подожди… Вот война кончится, я приоденусь, и ты еще посмотришь, что баба-то у тебя красавица, а не просто окопная жена. Ты еще в платье меня не видел и на каблучках».
«Конечно, купим тебе все. — Я высунулся из окопа опять, прикрыв половину лица лопатой, и увидел над высотой полосу рассвета и силуэты „катюш“, которых вчера не было. — Кому же еще покупать, если не тебе? Только выживи. Выживи! Купим все, и все у тебя будет! Все!»
«Слова. Это слова, — сказала она, вдруг поднимая лицо, на котором губы были как рана. — А нам давно пора иметь общий дом. Мне надоело ездить в этот твой „шалаш“».
«Дура! Здесь со вчерашнего дня сидит снайпер. Уходи. Для чего ты рискуешь?»
«Я люблю тебя. Понимаешь?.. А река… Вот эта река… река… наша река… Куда ты летишь… Почему ты не пишешь свою книгу дальше? Ведь ты хотел написать про Миус…»
«А зачем? Кому это теперь нужно? Зачем?»
«А на что же мы будем жить и обставлять нашу квартиру? О мой бог, как пахнут эти сосны! Почему ты говоришь, что твоей душе одиноко? Тебе нужно больше работать. Все равно садиться за машинку, даже если ты не знаешь, о чем писать. Работать над каждой фразой, раз ты вернулся. Ну что ты нашел в этом Ростове?..»
Я заставил себя сесть повыше, и воздух ударил мне прямо в лицо. Стюардесса уже шла ко мне. Она принесла бутылку боржома, какой-то пузырек и клочок ваты.
— Спасибо. Большое спасибо, — поблагодарил я. — Лекарства не надо…
— А с вами ничего не случится? — спросила она, внимательно глядя мне в глаза. — Долетите?
— Все будет хорошо. Это просто война. — Я попытался улыбнуться ей. — Теперь уже ничего.
— Когда же это вы успели? На вид не скажешь. А я-то сначала подумала, что вы малость… А не вызвать к самолету скорую? Вы не стесняйтесь.
— Да нет, что вы. Можете теперь не беспокоиться.
— Ну вы-то еще не самый беспокойный, — вдруг улыбнулась она. — За эти рубли тут не того наслушаешься.
— Представляю, — сказал я.
— Ну если что — нажимайте кнопку. Скоро посадка.
Я посмотрел на нее. До чего же в самом деле она напоминала мне ту мою первую…
За окном, разбегаясь перед нами, рвались жиденькие марлевые облака, клочки их тут же разлетались и пропадали навсегда, а поднявшееся вверх и чуть дрожащее крыло остро блестело на солнце, и под сердцем у меня разрасталась пустота уже невыносимая. Поля теперь обозначились, хотя сквозь эту марлю были видим мутно. И желтые уже убранные поля и река… Хотя что за река этот наш Миус: там и курица не напьется. Но тот-то, противоположный берег был крутой.
Откуда-то донеслось: «Наш самолет пошел на посадку. Аэропорт Ростов. Прошу не курить и пристегнуть ремни. Прошу всех пристегнуть ремни…»
Мой сосед потянулся, зевнул и выпрямился.
— Скажите, — спросил я его, — вы случайно не знаете, какая это река?
Он взглянул в окно, потом на меня и усмехнулся:
— А для меня, батенька, все реки просто-напросто элементарные водоемы. И реки, и моря, и океаны для меня по роду службы водоемы, даже если тут уже в мирное время начали стрелять людей… Вас что, лихорадит?
Теперь хорошо было различимо шоссе, беленькие домики какого-то города… И вся эта степь…
— Лечиться, лечиться, по рюмашечке коньяку, когда сойдем, а?
Я видел внизу не только шоссе, но и цистерны, чехлы, и стволы орудий, и амбразуры (как, оказывается, крепко удерживались в памяти все подробности), и заграждения, и траншеи… Мы наступали! И тапки, и пушки, и упавший горящий «Як», и неизвестно откуда взявшаяся большая черная машина командующего, в которой однажды катался знаменитый и молчаливый сапер Константин Рагулин, или, как мы его звали, Нас Не Трогай. Он носил совсем не по чину легкие хромовые сапоги, ходил только вместе с офицерами и меня, наверное, сперва принимал за полкового писаря или переводчика, потому что я в блиндаже командира батальона должен был стоять навытяжку и только переводить не рассуждая, а Костя Рагулин имел право и сидеть, и курить, и смотреть на меня не то свысока, не то безразлично или не смотреть вовсе, словно нутром чувствуя мою зависть, которую я по-мальчишески не мог скрыть, и по-мальчишески отдал бы все, чтобы подружиться с ним. Он был только на год или на два старше меня — так мне казалось. И лишь потом я узнал, что он старше меня ровно на десять лет. Как лишь потом я узнал и то, что он был человеком с необыкновенной зрительной памятью, и это он нанес на карту весь участок, перед которым мы лежали, зарывшись в землю, и который немцы почти два года укрепляли всем чем могли…
— Так что не возражаете по рюмашечке? — Мой сосед наклонился, и запах одеколона ударил в меня еще сильней.
…Духами и кислым сигарным дымом как раз и пахло в захваченных нами блиндажах, — так надежно они здесь устроились, даже никелированные кровати и умывальники. Но мы их вышибли. А потом вдруг сами попали под страшный огонь замаскированного «краба». И, волоча за собой пулемет, я должен был ползти под развороченный наш танк, на котором было написано «Донской казак», чтобы лежать под ним и ждать саперов. А мы уже знали, что нас повернули от Миуса на юг, к морю, и что за той высотой — Таганрог, и что очень скоро пойдет конница, но и она тоже поляжет возле этого «краба». Этот стальной кочующий дот находился посредине минного поля и был неприступен, и наш танк, подорвавшись, закрывал собой только узкую полосу, по которой можно было ползти, но дальше-то все равно мины. А саперов все нет. Подтянув цинку с патронами, уткнувшись лицом вниз, я ждал и зубами пытался развязать кисет, потому что еще утром обжег руки о ствол пулемета, и развязал все же. Но все равно не смог свернуть себе цигарку, потому что не гнулись пальцы, а только просыпал махорку, и хотел выпить глоток, но фляжку вроде бы потерял, фляжку, в которой был разведенный спирт, под пулями принесенный мне Ниночкой. Я слышал, как шуршали и выли осколки. А потом, повернувшись на какой-то близкий звук, увидел ее. Она опять оказалась рядом. В руке у нее поблескивало что-то плоское, круглое. И это что-то она выставляла перед собой как щит.
«Живой?» — И подняла над головой огромную сковородку, которую нашла в немецком блиндаже.
Она как-то по-особенному вскидывала глаза и смотрела на меня с материнским спокойствием, доверчиво, терпеливо. И пропадала война… На меня обрушивалась невероятная тишина, как будто я мог встать во весь рост и, раскинув руки, улыбаясь, идти навстречу пулям, непробиваемый, заколдованный… Пропали и «краб», я мины, и черная от воронок степь, и даже танк, под которым мы лежали.
«Таганрог возьмем — блинов напеку…» — Она произносила слова чуть нараспев, хрипловато.
Я удивлялся, откуда в ней сила вытаскивать раненых.
Увидев, как я мучаюсь с махоркой, она свернула цигарку, прикурила и, закашлявшись, сунула мне в рот. Потом достала из сумки бинты и перевязала мне руки.
Я посмотрел на нее и вдруг увидел, как она вытерла слезу. На лице ее была серая пыль.
«Страшно мне, — попыталась она засмеяться. — Нам мамка перед самой войной говорила: „Ой, дети, через край я счастливая, горе будет…“ И я тоже такая счастливая… А тебя не убьют. Я загадала».
Я вытер ей слезы.
И тут снова вдруг ожил «краб».
Я посмотрел и увидел, что из той самой лощины, откуда еще минуту назад бил миномет, выскочили наши солдаты с автоматами. Маленькие зеленые фигурки. Они бежали прямо на тот стальной дот, не зная, что он там, спотыкались, вскакивали снова, бежали и падали. «Краб» сбивал их пулеметом, как пух, как полынь.