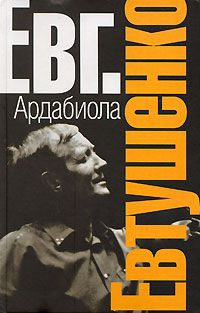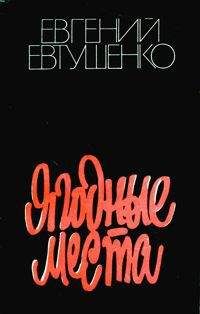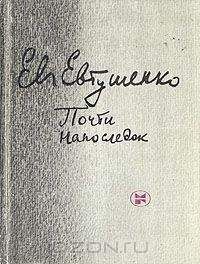Евгений Евтушенко - Ардабиола (сборник)
Со всех сторон в предателей родины летели гнилые бананы, камни, бутылки. Какой-то особенно усердствующий патриот перегнулся через руки полицейских и, собрав всю слюну, с восторженной ненавистью харкнул в лицо Макоте. Макота сделал непроизвольное движение, пытаясь выдрать руки из наручников, чтобы стереть плевок. Жирный плевок повис на щеке, медленно сползая вместе с потом. Макота нагнул голову вбок, стараясь достать щекой плечо, но подбородок уперся в лист фанеры с иероглифом трусости. Толпа радостно гоготала.
И вдруг раздался хриплый возглас:
— Пропустите инвалида Цусимы!
— Пропустите инвалида Цусимы, пропустите! — подхватили в толпе. — Он им покажет!
Полицейские расступились, пропуская махонького, тощего старика на костылях, в кожаном фартуке сапожника и с молотком, засунутым за фартук.
— Дай им костылем, старик! — завизжали в толпе. Старик подковылял к Макоте и вынул молоток из-за фартука.
— Нет, он молотком — это покрепче. Правильно, старик! Дай ему по глазам! — неистовствовали в толпе.
Желваки резко обозначились на скулах Макоты. Гордо вскинув подбородок, Макота закрыл глаза.
Но старик неожиданно сунул молоток в карман. Узловатыми кривыми пальцами он развязал тесемки на своем фартуке, снял его и вытер изнанкой фартука лицо Макоты.
Кимура подумал, что люди сейчас разорвут старика, но толпа застыла и онемела.
А старик надел снова фартук, завязал тесемки, сунул на прежнее место молоток и заковылял, опираясь на костыли, назад. Толпа безмолвно расступилась перед ним, и он растворился в ней…
Но об этом японец ничего не сказал Гривсу. Японец ограничился лишь упоминанием, что был в тюрьме.
«Кто его знает, может быть, он врет, — подумал Гривс. — И, кроме того, он все-таки бомбил Пирл-Харбор…»
…Гривс шел с девушкой по ночному пляжу мимо пустых шезлонгов.
Девушка сняла туфли, и серебряная цепочка на щиколотке то ныряла в песок, то выныривала из него, поблескивая в лунном свете. Рядом вздыхал и ворочался океан, пересыпанный звездами. Вдали, как хрустальный башмачок, медленно плыл крошечный светящийся пароход.
— Я никогда не плавала на пароходах, — сказала девушка. — Я жила в деревне и плавала только на лодках.
— А я служу на «Аризоне», — сказал Гривс. — И еще я рисую.
— Я рисовала только прутиком на песке, — улыбнулась девушка, и ее зубы так и плеснули белизной.
— А что ты рисовала? — спросил Гривс.
— Я рисовала солнце и молилась ему, когда рыбаки были в море. Но однажды случился большой ураган, и мой отец утонул.
— А как ты попала в Гонолулу? — спросил Гривс.
— Моя мать осталась с пятью дочерьми. Я была самая старшая. Надо было зарабатывать, — тихо ответила девушка.
Гривс ее больше ни о чем не спрашивал. Какое, собственно говоря, имел право спрашивать он, никогда не знавший нужды! Конечно, его отец постоянно сетовал на денежные неприятности, но холодильник был всегда полон.
— Давай купаться! — предложил Гривс.
— Хорошо, — покорно согласилась девушка.
Она сняла через голову платье и, сложив руки на груди, совсем как деревянные идолы в баре, стала медленно входить в воду.
Гривс догнал девушку, когда она лежала на волнах, раскинув руки. Из воды высовывалось только ее лицо на тонком стебельке шеи.
В воде девушка не стеснялась Гривса. Она как будто чувствовала себя неотъемлемой частью бесконечности океана и бесконечности неба, прогибавшегося от крупных подрагивающих звезд.
Гривс лег на спину с ней рядом, отыскал в воде ее тоненькую руку, и так они долго лежали, покачиваясь вместе с океаном и небом и ничего друг другу не говоря.
В отношениях с девушками опыт Гривса был очень ограничен: случайные встречи, поцелуи да иной раз украдкой тисканье на вечеринках и в кинотеатрах. От дальнейшего его удерживало что-то стыдное, пугающе поднимавшееся в нем помимо чувств. Сентиментальное воспитание по материнской линии давало себя знать, и Гривс мучился оттого, что ни разу не испытал ничего похожего на любовь.
Но сейчас его охватил какой-то пробирающий до костей озноб, и голова кружилась, когда он видел рядом это покачивающееся необыкновенное лицо с огромными темными глазами и чувствовал бедром легкое, как сгустившаяся волна, тело.
Они поплыли к берегу, продолжая держать друг друга за руки. Когда ноги нащупали песок, девушка снова сложила руки на груди, собираясь выходить из воды. Но Гривс медленно отвел ее руки. Не то чтобы он приблизился к ней или она приблизилась к нему, — это сделал за них океан, и Гривс почувствовал ладонью ее влажные острые позвонки, а где-то внизу, под водой, нечаянно наступив на маленькую ногу, ощутил холодящую шершавость серебряной цепочки.
— Я люблю тебя! — хрипло сказал Гривс, не узнавая собственного голоса. И он стал целовать ее твердые соленые груди, жилку, вздрагивающую на стебельке шеи, спутанные волосы, пахнущие океаном…
Белая полоска зубов внутри ее чуть вывороченных губ медленно растворилась ему навстречу, и все вокруг исчезло, кроме теплой глубины ее рта и огромных глаз, казалось, разлившихся по всему ее лицу.
Потом они снова шли по пляжу, изредка обдаваемые блуждающим голубым лучом прожектора, и Гривс лихорадочно говорил:
— Ты должна бросить все. Я кончу службу и женюсь на тебе. Мы уплывем на большом пароходе. Хочешь?
Девушка с испугом слушала то, что говорил Гривс, и безропотно кивала.
Он был непохож на других, и ей было с ним хорошо. Она, конечно, не верила тому, что он говорил, но не хотела его огорчать и кивала.
— Через неделю я получу увольнительную. Мы увидимся здесь, на пляже, ровно в восемь вечера, — говорил Гривс.
И она опять кивала.
Гривс обнял ее и, запинаясь, сказал:
— Пожалуйста, возьми у меня денег… — И, залившись краской, пояснил: — Я имею в виду деньги на такси…
Девушка отрицательно покачала головой. Нет, она не могла взять от него денег. С ним она испытала там, в воде, то, чего не испытывала раньше ни с кем. Нет, она не могла…
Девушка поцеловала Гривса сжатыми губами и надела туфли.
— Я тебя провожу… — сказал Гривс. Девушка снова отрицательно покачала головой.
— Ты меня любишь? — спросил Гривс.
— Да, — сказала девушка. Ей хотелось, чтобы он был счастлив.
Она поцеловала его еще раз, повернулась и стала подниматься по каменной лестнице, ведущей с пляжа в город.
«Если она обернется, она любит меня…» — по-детски загадал Гривс. Ему было всего восемнадцать лет.
Девушка обернулась и через мгновение, опустив голову, исчезла в огнях города.
Гривс сжал ладонями виски и, как ему показалось, прошептал:
— Мама, я люблю ее…
Но, очевидно, он это не прошептал, потому что с песка поднялась чья-то взлохмаченная голова и пробурчала:
— Люби себе на здоровье, но нет ли у тебя чего-нибудь смочить глотку?
Послышался кашель, смачное отхаркивание, и перед Гривсом выросла колоритная фигура: обросшее седой щетиной распухшее лицо, медальон со святым Христофором на косматой груди, лезущий сквозь растерзанную рубаху, спадающие выцветшие штаны, являвшие собой причудливое сочетание всевозможных пятен, и веревочные сандалии на босу ногу. Глаза смотрели из-под кустистых седых бровей с пьяным дружелюбием.
— К сожалению, у меня нет ничего с собой, сэр… — сказал Гривс. — Но я могу вас пригласить, если вы, конечно, свободны.
Гривс был настолько счастлив, что ему хотелось обнять и расцеловать все человечество, частью которого являлся этот живописный незнакомец.
Незнакомец подтянул спадавшие штаны и хлопнул Гривса по плечу медной от загара ручищей, на которой было выколото: «Джим любит Нэнси».
— А ты мне нравишься, парень. Обычно матерей вспоминают, когда подыхают. А ты вспомнил мать, когда втюрился… Ладно, принимаю приглашение. Только я сегодня не в смокинге.
Гривс со своим новым знакомым отправился на поиски какого-нибудь теплого местечка, но бары уже закрывались, и из дверей выходили усталые музыканты с инструментами в футлярах. Гривс посмотрел на часы и с ужасом понял, что сейчас четыре утра, а увольнительная истекла в два. Но теперь ему было все равно.
— Я знаю один полинезийский бар, — сказал Гривс. — Может быть, там еще открыто.
— Полинезийский так полинезийский… — сказал Джим. — Я интернационалист.
Полинезийский бар был действительно еще открыт, и из его дверей доносились звуки банджо.
Швейцар, разинув рот, воззрился на колоритную фигуру Джима и сделал вежливо преграждающее движение рукой. Но всунутые Гривсом в его руку пять долларов умерили ее административную бдительность.
Они вошли в бар, и вдруг Гривс замер, схватив за рукав воспрянувшего при виде галереи бутылок Джима.
У стойки на металлическом полукружье он увидел маленькую ногу с родинкой, перехваченной серебряной цепочкой.