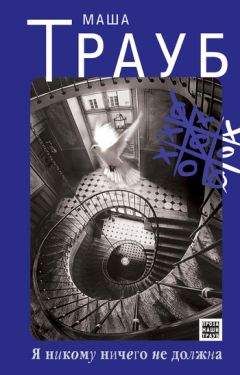Елена Серебровская - Весенний шум
И не дожидаясь, что скажет брат, она пошла одеваться. Сева взглянул на телеграмму. Она была подписана незнакомым именем: главврач Овчаренко.
Как медленно идет поезд! Тук-тук — постукивают колеса на стыках рельс. Мимо летят деревья в снегу, деревянные домики, каменные кубы промышленных зданий. Мимо пролетает родная, все еще мало знакомая земля, — всюду строят, всюду дома в лесах, и снежные пряники на каждом бревне, на каждой досочке.
Интересно? Должно быть. Маше не до этого. Маша торопится — успеть бы. Недаром сердце ее ныло так тоскливо, предчувствовало беду. Откуда это осложнение? Слишком рано он погрузился снова в работу. Эти поездки, выступления на митингах — он же ничего не делает вполовину, он всегда расходует себя до предела. Всякий раз, всходя на трибуну, он ведет себя так, словно это и есть наш последний и решительный бой, словно именно сейчас он и должен найти самые горячие, самые неопровержимые аргументы в защиту коммунизма, в защиту пятилетки, против международного капитала. И он их находит — каждая фраза переводчика заглушается аплодисментами. Понятно — это он готовится к разговору с рабочими своей родной страны, накапливает силы. По здоровье, здоровье…
Тук-тук — стучат колеса. Маша едет день, два, три. В вагоне холодно, а главное — полное отсутствие вестей. Что с ним? Скоро ли она доедет, в самом деле? Зачем, зачем отпустила его одного? При ней бы, наверное, ничего не случилось.
За окном потянулась голая рыжеватая земля, кургузые деревья с толстыми стволами и слишком коротко подстриженными шапками, — это тутовник, с него каждый год срезают зеленые ветви на корм шелкопрядам. Здесь уже тепло, женщины ходят в калошах на босу ногу.
Она сошла в незнакомом городе и бегом, побежала по адресу, указанному в телеграмме. Она не взяла с собой никаких вещей, только портфельчик со сменой белья и полотенцем, — бежать было легко. На улицах попадались огромные величественные верблюды, множество людей в незнакомых восточных одеждах, трусившие мелкой рысцой ослики. Все это было фантастично, неправдоподобно и ни к чему.
Главврач Овчаренко печально взглянул на нее и предложил сесть. Но она стояла прямо против его широкого стола, глядела в упор и спрашивала:
— Где он? Жив? Скажите, жив?
— Вы еще очень молоды, — ответил главврач, выйдя из-за своего огромного стола и взяв ее за руку. — У вас все впереди, хотя какие тут могут быть утешения! Скончался два дня тому назад. Кровоизлияние в мозг. Не хоронили, ждали вас.
Белый халат Овчаренко пахнул папиросами, — Маша плакала, прижавшись к груди главного врача, она вся тряслась от плача и не могла остановиться. Главврач гладил ее по вздрагивавшим плечам и терпеливо ждал, когда этот взрыв утихнет. Он хорошо знал, что после таких слез женщине станет легче, она ослабеет и успокоится хоть немного, а потом постепенно справится с горем. Хуже, когда такое известие встречают молча, не двинув ни одним мускулом лица. За таких людей главврач всегда беспокоился больше.
Это сон. Конечно, сон! Тихо и незаметно жила себе молодая девушка, мечтала о подвигах, только еще мечтала, не совершила ни одного! И вдруг явился герой, замечательный человек, и избрал ее своей женой. Месяц замужества — мгновенный, весь неясный еще, — она только привыкала к этому человеку, — короткая разлука — и вот… Сырые комья земли на холмике да красная звездочка в изголовье. Зачем ты приходил в мою жизнь, милый? Чтобы я узнала и запомнила, как трудно жить на земле одной? А может, затем, чтобы острее, врезалась в сердце одна единственная мысль: служи времени, живи для великой цели, и даже в мелких своих личных обстоятельствах не забывай — ты женщина нового общества.
Разве жизнь состоит только из вечера и ночи? Но в том-то и заключалось Машино несчастье, что Курт за короткое время успел стать другом. И хотя он смеялся, рассказывая своему товарищу из Института Маркса и Энгельса о том, как его жена не пожелала взять его фамилию, — именно после этого он стал уважать Машу еще больше. А она была довольна. Легкое ли бремя — носить знаменитую фамилию, случайно залетевшую в твой паспорт? Больше ли у нее, жены, прав гордиться заслугами мужа, чем у всех остальных, кто знает его жизнь и дела? Разве помогала она ему в те далекие тяжелые годы, когда он сражался против банд Носке — Шейдемана? Нет и нет. И не к лицу ей греться в лучах чужой славы. Она сама существует, какая ни на есть. Сама.
Наверное, поэтому она не рассказывала о своем замужестве и подругам по фабзавучу. Только секретарь заводского партийного комитета откуда-то знал об этом, — он вообще знал все обо всех, такая уж у него была должность, — и, бывало, спрашивал ее, здоров ли Курт, не выступит ли на слете ударников…
Одиночество… Конечно, она попыталась тотчас сравнить себя с Куртом. Он был в заключении, когда узнал, что его жена погибла для него, оставила его, вышла замуж. Он не упал духом, приговоренный к пожизненному заключению, он продолжал жить, заниматься по утрам гимнастикой, петь песни, перестукиваться с товарищами.
А она? Она не видела ужасов, она здорова, окружена друзьями. Если она стала его женой, значит, почувствовала в себе достаточно сил, чтобы идти с ним наравне, чтобы переносить испытания. Первым испытанием стала его смерть. А она должна жить, учиться, работать так, будто все по-прежнему, будто не было никакого несчастья. Должна — значит, сможет.
Так она рассуждала. Но жестокая тоска пригибала ее к земле, преследовала и томила. И вечерами, сидя дома за учебником, Маша часто вдруг начинала плакать, не могла удержаться от слез. Ей казалось, что теперь она всегда будет несчастной и одинокой. Хотя бы ребенок остался, как память о нем, как продолжение его жизни. Но нет, одна!
— Доченька, надо успокоиться. Не терзай себя, отвлекись от своего горя, — говорили отец и мать.
— Тебе надо рассеяться, — говорил ей отец, поглаживая ее кудлатую светло-русую голову. — Сходи в театр, музыку послушай. Что пользы из того, что ты мучаешь себя и плачешь по вечерам? Силы надо беречь, они тебе нужны для учебы, для дела.
В свободную минуту отец веселил ее шутками, рассказами о своих экспедициях. Вспоминал о студенческих увлечениях, о маминых женихах, которых она браковала, не решаясь выйти за них замуж, пока не нашла себе его, нищего студента со слабыми легкими, — что только она увидела в нем! А всякие сватали — был и помещик средней руки, и другие люди с достатком. Да не полюбила она никого из них, хотя знакомые уже называли ее за глаза «перестарком» — было ей двадцать три года.
— У тебя всё впереди! — уверял отец, и голос его в этот момент был очень похож на голос главврача Овчаренко.
Но Маша не искала общества, чуралась знакомых ребят. Они казались ей слишком обыкновенными, неинтересными.
Надо было заняться чем-то сверх обычного, израсходовать побольше сил. Завод уже выпустил два первых линотипа и перешел к их серийному производству, комсомольское шефство над линотипами стало вчерашним днем. Какие же еще найти себе трудные задания, чтобы это было очень нужно для всех? Где же, в чем она, революционная романтика прозаических лет первой пятилетки? Где-то далеко на Амуре ребята строят новый город, но Ленинград-то уже построен. Участвовать в субботниках по уборке строительного мусора возле нового корпуса завода? Можно, но это все не то. Что же делать? Какие трудности преодолевать? Или для нас уже и трудностей не осталось?
Самыми заметными в те годы были продовольственные трудности. Хлеб получали по карточкам, продукты тоже. Великий перелом в деревне, повсеместная перестройка работ на всех полях, лугах и огородах страны, работ, которые испокон веков велись каждым порознь… Это было далеко не простое дело. И не случайно в городах не хватало продуктов, а на рынке ни к чему нельзя было подступиться? Вместо мяса по карточкам получали ржавые селедки. Но какое отношение имело это все к романтике комсомольской работы?
Оказывается, прямое. Узнала об этом Маша после районной партийной конференции, когда, направляясь в райком комсомола, увидела в вестибюле здания стенгазету партийной конференции. В центре газеты был нарисован секретарь райкома партии товарищ Шургин. В одной руке он держал за шкирку белого кролика, в другой — розового поросенка, с торжеством встряхивая их. Под рисунком стояла подпись: «Вот в чем решение вопроса!»