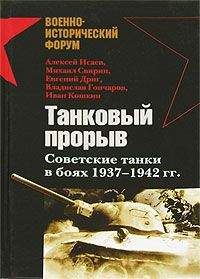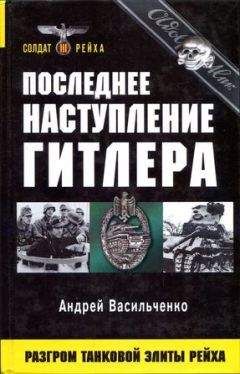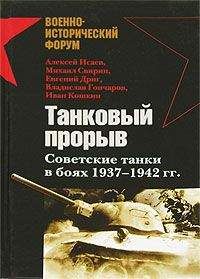Илья Дворкин - Взрыв
Шугин долго пытался понять, но так и не понял, почему у него тревожно на душе. Чем дольше глядел он на луну, на зыбкие тени зарождавшейся белой ночи, тем тревожнее ему становилось. И он догадался наконец, что тревога эта живет в нем самом, притаилась где-то под спудом, в подсознании.
Он стоял напряженный, затаив дыхание, и пытался понять, уловить истоки своей тревоги. И не мог. Ему казалось, что вот-вот сейчас, сию минуту он догадается. что же такое произошло, но чем больше он думал, тем меньше понимал свое состояние.
Неясные, расплывчатые, будто размытые жидким потоком лунного света, проносились обрывки каких-то сцен, образов. Вот он пожимает костяную руку того парня, а рядом Ольга. Она улыбается хищно и насмешливо, и вдруг оказывается, что это не Ольга вовсе, а кто-то темнолицый, с глазами желтыми, как у разъяренного попугая. И вот уже вспоминается явь — всей бригадой толкают в гору компрессор, помогают лебедке, и вдруг трос провисает и многотонная масса медленно и неотвратимо ползет на них, и не остановить ее, не остановить — мышцы и связки трещат от напряжения, и вдруг Женька Кудрявцев прыгает в сторону, и Шугин успевает подумать: «Мерзавец. Дезертир!» Но крикнуть ничего не может — губы свело от напряжения. А компрессор прет и прет, и, когда выдерживать его тяжесть уже нет никакой возможности, появляется взмокший Женька с большим булыжником в руках и сует этот булыжник под колесо компрессора. Раздается скрежет камня о камень, компрессор начинает разворачиваться по оси, его заваливает набок, Шугин и остальные отскакивают, и Шугин почему-то холодно и насмешливо успевает подумать: «Все! Конец телеге!» Но в этот миг Фоме наконец удается врубить стопор лебедки, трос снова натягивается, и все обходится.
И вновь мелькают лица, лица — какие-то странные, совсем незнакомые.
Очевидно, Шугин задремал стоя, потому что, очнувшись, так дернулся, что чуть не упал. Он пытался понять, отчего он всполошился, и тотчас услышал гулкий звук: кто-то покашливал внизу, у самого уреза воды.
«Что за черт, — подумал Шугин, — снится мне это, что ли? Кому здесь быть посреди ночи? Наши все спят, в поселке темно...»
Он осторожно, стараясь не наступить на сухую ветку, добрался до гранитного спуска к воде, и тут шаги его стали совсем бесшумными. Ноги, обутые в кеды, цепко приникали к шершавому камню, и Шугину казалось, что в такую ночь можно запросто ходить по отвесным стенам. Наверное, именно в такие ночи и выходят на прогулку лунатики. Он спустился к самой воде и увидел сгорбленную фигуру.
Шугин подошел почти вплотную к незнакомцу и только тогда узнал главного врача санатория Илью Ефимовича Дунского.
Тот сидел, упершись локтями в колени, положив подбородок на сжатые кулаки, и задумчиво глядел перед собой. Шугина поразило лицо главврача. Куда делись округлость, ямочки, привычная живость черт! Перед ним сидел усталый, очень спокойный, точнее сказать, даже умиротворенный человек.
Шугин глядел на него и не решался подойти, нарушить его спокойное одиночество. Ему казалось, что с таким лицом человек должен думать о чем-то очень важном, вечном — о жизни и смерти, о мироздании, о том, что есть человек и для чего он живет на земле. Шугин поколебался и собрался уже повернуть назад, но нога его скользнула, и Юрий чуть не упал.
Дунской резко вскинул голову. Луна светила врачу в лицо, и он не сразу разглядел, кто перед ним.
— Кто это? — спросил Дунской.
— Это я, Илья Ефимович, Шугин. Я случайно тут.
— Садись, разрушитель! — Дунской похлопал ладонью рядом с собой. — Задумаешься тут — солярка для движка кончается, автоклав ни к черту, а тут еще один чудак другому операцию сегодня делал! Можешь представить?! Тут лосиные мухи водятся, клещи с крылышками, и вот один такой клещик и вцепился моему пациенту, простите, в заднее место — они под одежду забираются. Он клеща-то оторвал, а голова под кожей осталась. Пострадавший своего дружка просит — вытащи, мол, к сестричке неудобно обращаться. Дружок сперва иголкой попробовал — не выходит. «Надо, говорит, тебе операцию делать». И давай ковырять перочинным ножом. Один ковыряет, второй не терпит, криком кричит. А вокруг ассистентов с полдюжины дают советы. Ну что с ними прикажешь делать? Взрослые мужики, а как дети малые.
Шугин даже не засмеялся, так его разочаровал Илья Ефимович. Вот тебе и вопросы жизни и смерти, вот тебе и мысли о мироздании... Солярка, автоклав какой-то паршивый, лосиные мухи... И это в такую ночь!
Видно, чувствовал Илья Ефимович настроение собеседника, потому что вдруг улыбнулся, оборвал себя на полуслове, внимательно вгляделся в Шугина.
— Да ты что это насупился, братец? Может, неприятности какие? — спросил он.
Шугин объяснил.
Илья Ефимович посерьезнел, помолчал малость, потом усмехнулся.
— Вон оно как! Что есть человек и для чего он живет на земле?.. Ну что ж, Юра, это очень важные вопросы, и о них тоже надо думать. Но для меня сейчас самое главное в жизни — как бы круче поприжать эту хитроумную стерву, имя которой — чахотка. А для этого нужно, чтобы операционная, если она понадобится, в любой миг была освещена. Это о солярке для движка. И чтобы бинты и салфетки были стерильными. Это об автоклаве. И еще сотни «чтобы». Потому что болезнь, которую я лечу, коварна и в любой момент нужно быть готовым к самым неприятным неожиданностям. И тут уж приходится думать о жизни и смерти не вообще, не в философском плане, а конкретно. Так-то, дружок! А то, что ты задумываешься над вопросами извечными, так это ты взрослеешь... душой взрослеешь.
Они глядели на тусклую воду шхер, думали каждый о своем. Было тихо-тихо, только изредка плескала по воде хвостом рыба-полуночница.
Потом Шугин неожиданно спросил:
— У вас есть семья, Илья Ефимович?
— Есть. Жена и сын. Жена тоже фтизиатр, но, в отличие от меня, хирург. А Ленька — студент, историком будет. Через месяц прикатят, жду не дождусь.
— Счастливый вы человек, доктор, — вырвалось вдруг у Шугина.
Дунской удивленно вскинул голову, подумал.
— Счастливый? — переспросил он и вдруг рассмеялся. — Что ж, ты, пожалуй, прав. Замотаешься, набегаешься, иной раз клянешь все на свете. Но если всерьез — да. Я бы другой жизни не хотел. А ты что же, несчастен?
Шугин не ответил.
— Я вижу, что ты маешься, — очень серьезно сказал Дунской. — И примерно догадываюсь отчего. Не так уж это трудно, учитывая твой возраст. Но ты вот о чем подумай, Юра, у тебя ведь есть самое главное, что нужно человеку. У тебя есть дело. Серьезное, опасное мужское дело. А все остальное... Это пройдет, Юра. Поверь мне, поверь как врачу и просто как человеку, который старше тебя вдвое.
— Не знаю, Илья Ефимыч, не знаю, — медленно сказал Юра. — Сейчас мне очень тошно, только работа и спасает. Но я вот о чем думаю... — Шугин разволновался вдруг, заговорил сбивчиво, проглатывая концы слов, с хрустом ломая попавшую в руки сухую веточку. — У всех у нас, я говорю о своих ребятах, жизнь была не очень похожа на розовый леденец. Петька в молодости глупостей натворил, у Ивана с женой полный завал, Женька хоть и помалкивает, но тоже было у него что-то. О Фоме уж и не говорю — хлебнул старик в жизни всякого по самые ноздри. Но если о главном... Они ведь мастера. Каждый из них мастер, взрывник волею божьей. Мы ведь это главное, о чем вы говорили, нашли, и это на всю жизнь, И если с такой точки зрения смотреть, мы, наверное, тоже счастливые люди. Так я говорю, доктор?
— Так, Юра, только так, — отозвался Дунской.
— А сколько таких, я и сам знаком с некоторыми: всего от пуза — деньги, квартира, машина, а счастья нет. Работают, лишь бы номер отбыть. У нас один есть, плановик, грамотный вроде специалист, а ждет не дождется конца рабочего дня и с удовольствием, со страстью кулинарит. Он жену близко к плите не подпускает. Такие супы делает, такие соусы и всякие там табака, чебуреки, паштеты! Я однажды в гостях у него был, чуть тарелку не проглотил, так вкусно. Дома целая библиотека из поваренных книг, от самых древних до последних. У него талант к этому делу, а он арифмометр крутит.
— Это верно. — Дунской усмехнулся. — Модное словечко «хобби» — это из той самой оперы. У меня ординатор есть, одно только звание — доктор. Зато как столярничает! Всю мебель в доме своими руками сделал. А другой, тот, правда, поприличнее врач, но тоже, — Илья Ефимович пожал плечами, — этот каждую свободную минуту в архивах и библиотеках пропадает — изучает историю жизни декабриста Лунина. Большое счастье, Юра, найти себя. Не каждому оно дается.
Они снова надолго замолчали, и Шугин почувствовал, что острая, сосущая тоска по Ольге чуть отпустила сердце. И он впервые поверил, что, возможно, сумеет когда-нибудь избавиться от боли своей навсегда.
Дунской встал:
— Ну, хватит, парень! Завтра дел невпроворот и у меня и у тебя. Скоро рассвет, а мы сидим тут, философствуем. Пошли-ка спать!
— А вы говорите — солярка, — улыбнулся Шугин и тоже поднялся.