Анатолий Черноусов - Повести
Словом, не умел Горчаков да и не хотел приструнивать, убеждать, заставлять «митрофанушек» учиться; здесь вуз, дорогие мои, а не детский сад, любил он повторять.
Сам он в работе яростный, поняла Римма, упорный; если уж сконцентрировался на каком–то деле, то уходит в него с головой, до самозабвения. «Этот далеко пойдет…» — слышала Римма и такое мнение о Горчакове.
В конце концов на его лекциях и лабораторных работах Римма стала садиться не в середине аудитории, как обычно, а поближе к кафедре, поближе к нему, в кругу тех, которые любили его лекции, для которых он, собственно, и старался. Эта ее «перекочевка» Горчаковым была, конечно, замечена, и это был добрый знак.
С тех пор прошло шесть лет, и на первые радости, на любовь взахлеб столько разного наслоилось. И пеленки, и болезни Анютки, и изматывающая, с подработкой по совместительству, борьба за более или менее сносное существование, и ссоры, и многое другое, что зовется прозой жизни…
Глава 9
Лаптев появился в клубах морозного пара, с белыми от инея усами и бородой, с красными щеками, большой, пахнущий стужей и ветром.
— Кто, кто в теремочке живет? — гудел он, сбрасывая у порога рюкзак.
А через минуту уже сжимал руку Горчакова своей широкой ручищей, расспрашивал, как устроился, не голодает, не мерзнет ли? В свою очередь Горчаков спрашивал, как Лаптев добрался, как море перешел. Оба похохатывали от удовольствия, называли друг друга по–чалдонски — «паря».
Первой же заботой Лаптева, после того как он передохнул, обогрелся и выгрузил из рюкзака продукты, была забота о «скотине», как он выразился. Набрав в горсть пшена, он полез через сугроб к птичьей кормушке, которая была пристроена на колышке перед окнами избы и представляла собою сколоченный из фанеры домик, с крылечком, с двускатной крышей и застекленным окошечком.
Лаптев просунул руку в дверной проем и высыпал пшено в кормушку. Не успел он обмести с валенок снег, протопать по веранде и вернуться в избу, как вот она, «скотина» — поналетели воробьи и давай один по одному сигать в домик–кормушку и клевать пшено; только стукоток стоит в гулком фанерном домике.
— Слушай, да они здесь какие–то чистые! — удивлялся Горчаков, сидя перед окном и наблюдая за птичьим пиршеством. — И перья у них разноцветные, не то что у городских воробьев–трубочистов!..
Просмеявшись, оба стали смотреть на птичек, как вдруг Лаптев приложил палец к губам и таинственно произнес: «Хозяин…»
И правда, откуда–то взялся особенно драчливый и настырный воробей, тотчас расшвырял своих собратьев, вытурил из домика и сам забарабанил там, склевывая пшено и всякий раз воинственно пресекая попытки других птичек проникнуть в кормушку.
— Я за ним третью зиму наблюдаю, — все так же, чуть таинственно, вполголоса, пояснил Лаптев. — Понимаешь, он первый побывал в кормушке, как только я ее сделал и выставил.
— Так ты его и узнал! — хмыкнул Горчаков. — Воробей как воробей, все они одинаковые.
— Не скажи, — возразил Лаптев. — Он, конечно, такой же воробей, но ты приглядись хорошенько. У него чуть–чуть покрепче клюв, потолще, что ли. И заметно шире, чем у других, вот этот черный галстучек на грудке. Но главное — характер, манера поведения. Они у него хозяйские, даже, я бы сказал, атаманские.
Горчаков смотрел, смотрел, и ему впрямь стало казаться, что у «хозяина» более заматерелый облик, шире «галстук», толще клюв; что он коренастей, быстрее и проворнее других. А уж воинственности, драчливости хоть отбавляй.
…После обеда Лаптев повел Горчакова в бор. Поворот за поворотом глухая заснеженная дорога уводила приятелей все дальше в чертоги бора, и за каждым поворотом открывались все новые виды. То по сторонам дороги, почти смыкаясь над нею вершинами, возвышались могучие березы, то впереди, на гриве, густо росли прямые, свинцово–темные снизу и золотистые к вершине, сосны. Зеленые их кроны причудливо испятнаны прилипшим снегом, он отяготил, нагнул книзу ветви старых сосен и вовсе согнул, наклонил до земли, молодой подрост. Пышными шапками снег возвышается на пнях, белыми пушистыми зверьками затаился на толстых сука х.
Еще один поворот делает дорога, и справа открывается ля га, болотце с черным буреломом тальника, черемухи, осины; снег здесь вкривь и вкось прошит следами зайцев.
Еще поворот, и вдруг расступился бор, вдруг открылась впереди широкая поляна с кипенно–белым снегом, поляна в окружении вековых разлапистых деревьев.
Легко скользя вслед за Лаптевым по пропаханной им глубокой лыжне, поднимаясь вслед за ним на гривы и скатываясь в ложбины, в зеленоствольный осинник, Горчаков думал о том, что вроде одинаковые сосны, березы да осины, похожие друг на друга холмы и ляги, так почему же не устаешь смотреть на них, почему не надоедает?..
«Все дело, наверное, в бесконечности их сочетаний, — рассуждал он, — в разнообразии расположения на местности, и когда идешь, глаз все время вбирает в себя новое и радуется этой новизне. Похоже на то, как завораживает горный ручей или пляшущий, текущий вверх огонь костра — то же непрерывное движение, изменение, обновление…»
Время от времени Лаптев приостанавливался, переводя дыхание, показывал на цепочку беличьих следов, на большую кучу сосновых шишек под деревом. Стало быть, говорил он, где–то там, в вершине, у дятла мастерская, удобная расщелина, в которой он заклинивает шишку и дубасит по ней клювом, добывая семечки.
А вот не то что одинокий заячий след, а настоящая торная тропа. И куда же она ведет? Куда бегали зайчишки скопом?
— Э, — тянет Лаптев, — да у них тут столовая! — и показывает лыжной палкой на сломанную ветром осину, ствол и ветки которой обглоданы до белизны; снег возле осины утоптан и сплошь усыпан шариками заячьего помета.
Возле глубоченных чьих–то следов–провалов Лаптев снова задержался. «Сохатый прошел, — негромко сказал он. — Матерущий бычина!»
Горчаков разглядывал развороченный звериными копытами снег, прикидывал расстояние между следами, и выходило метра полтора. Это какой же, должно быть, гигант прошагал здесь, если у него такой шаг!
А Лаптев между тем звал его в сторону от дороги, где в окружении молодых сосенок виднелась большая продолговатая вмятина в снегу, будто лежала здесь огромная пузатая бочка.
— Лёжка, — сказал Лаптев и посмотрел по сторонам — не видать ли поблизости того, кто отдыхал тут?
От Лаптева шел пар, на вороте толстого свитера, на бороде и усах, на рыжей меховой шапке белел иней, широкое раскрасневшееся лицо было размягченным, а в глазах таинственно и хитровато поблескивало. Горчаков не без зависти подумал, что Лаптев чувствует себя в бору как у себя дома, и вид у него такой, будто он познал в жизни что–то очень важное, чуть ли не главное.
На обратном пути приятели устроили гонку, и хотя лыжня была не ахти какая торная, она все же здорово облегчала бег: лыжи не проваливались, не расползались в стороны, а легко скользили по продавленным в снегу траншейкам. «Вспомнив молодость», оба разошлись, разбежались, азарт их захватил — а ну, не подкачай, старина! И Лаптев, гикнув, понесся вниз с увала, взметая за собой снежную пыль. Горчаков, весь во власти соревнования, метнулся следом и торжествующе настиг товарища при подъеме на гриву.
— Это место называется Марьины горки, — прерывисто дыша, обернулся Лаптев и задорно подмигнул Горчакову.
И пошли грива за гривой, горка за горкой, то вверх, то вниз, то подъем–пыхтун, то спуск–свистун. С иных горок несло так, что Горчаков чувствовал, как морозцем схватывает, склеивает веки и ресницы.
«Ага! Забурился–таки Лаптев! То–то! Не бывало еще, чтоб Лаптев обогнал меня на лыжах!» — и Горчаков обошел рухнувшего в снег соперника, пожелав ему приятной лежки.
Однако торжество его было недолгим: взбираясь на соседний холм, он уже слышал за спиной шумное азартное сопение Лаптева.
Так, обгоняя друг друга и подразнивая, они отмахали несколько километров и неожиданно выскочили на опушку, прямо к крайним избам деревни. Сбавили ход, остановились, чтобы отдышаться, и, довольнехонько посмеиваясь, ладонями стирали с лица и пот, и куржак.
А вечером Лаптев затеял баню. Сообща наносили воды, накололи березовых дров, накалили баню, а потом хлестались на полке духовитыми вениками. И как можно было опять же уступить друг другу! Как можно было сдаться первому!.. Крякали, рычали, плескали воду из ковша на раскаленные камни и в конце концов подняли такой жар, что казалось — вот–вот уши свернутся в трубочку и опадут, как опаленные зноем листья.
В избу шли на заплетающихся ногах, красные, в облаках пара, накинув на плечи полотенца, едва надернув трусы и валенки.
Упали на кровати и лежали до тех пор, пока мутные глаза, уставленные в потолок, не наполнились смыслом.

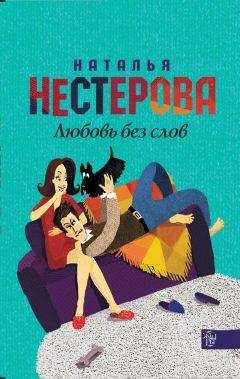
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)
