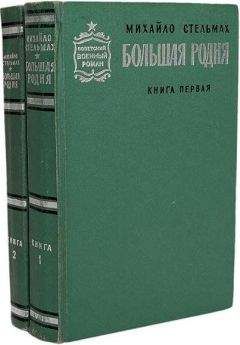Михаил Стельмах - Четыре брода
Стах останавливается перед дверью и тихо спрашивает:
— Это вы?
— Я.
И сразу гора сваливается с Оксаниных плеч. Словно выстрел, отдался в ее ушах стук засова, и в сени вошел неизвестный. Стах то ли придерживает, то ли обнимает его, и так они стоят минуту, не говоря ни слова.
— Зиновий Васильевич! — вскрикивает и прикладывает руку к губам Миколка. — Заходите же.
— Сейчас, Миколка, зайду, — хрипло говорит Сагайдак, закрывая двери, и, пошатываясь, направляется к каморке. — О, тут вся семья… Здравствуйте, Оксана, здравствуй, Миколка. Как ты?
— Плохо, Зиновий Васильевич, — опустил голову хлопец. — Кругом плохо.
— От Владимира весточки нет?
— Нет, — вздыхает Оксана. И только сейчас набрасывает на голову платок. — Поехал со своим техникумом, а доехал ли?
— Будем надеяться…
Оксана торопливо, кое-как застилает кровать, одеялом занавешивает единственное окно каморки, в которой теперь почему-то норовит спать муж, зажигает убогий, по теперешнему времени, свет, ибо что говорить об электричестве в селе, когда его и в районе нет. Слабый огонек покачивает тени, освещает чистое золото Миколкиных кудрей, печальное лицо Оксаны, задумчивое Стаха и измученное Сагайдака. Морщины горечи, морщины утрат как-то сразу подсекли его губы, небрежно избороздили высокий лоб.
— Вы, наверное, голодны?
— Голоден, Оксаночка, как волк в лютую зиму, — пытается улыбнуться Сагайдак.
Он снимает фуражку, и три пары глаз изумленно смотрят на него.
— Чего вы? Чего? — с удивлением спрашивает и оглядывается вокруг: что же они увидели такое странное?
— Ничего, ничего, — первой приходит в себя Оксана, хотя в голосе ее еще дрожит печаль.
Зиновий Васильевич растерянно обводит всех взглядом:
— Что с вами, люди добрые? Какая-нибудь беда? Может, мне лучше уйти от вас?
— Нет, нет, дядя! — льнет к его рукаву Миколка. — Побудьте с нами.
— И не подумайте куда-то уходить, — грустно говорит Стах, — а то ведь скоро уже начнет рассветать. Раздевайтесь. А ты, Оксана, иди к печи, если там что-нибудь есть.
— Так что же, наконец, с вами?
— Это не с нами, — не знает, что сказать, Стах. — Это вас вон среди лета снегом занесло.
— Снегом? — не понимает человек и невольно подходит к небольшому зеркалу. В нем тускло заколебалось осунувшееся лицо. Но не оно поражает, а чуприна, в которую так неожиданно вплелась седина. Он провел по ней рукой, однако изморозь не осыпалась — вечной стала. Как видно, не прошел даром тот холод, что бил его на подворье Бойков. Вот и прощай лето — зима сразу упала на голову, верно, для того, чтобы по гроб жизни не забывал тех, кто уже никогда не вернется. Память переносит его к Бойкам, где старость оплакивала молодость и где в гробу лежали те зернышки жита, что пойдут в землю и никогда не взойдут на ней.
Он отгоняет от себя видения, оборачивается к Стаху, Оксане, Миколке и на их печаль отвечает словами старинной песни:
— «Як упала зима бiла, — голiвонька моя бiдна…» Мой отец поседел в шестьдесят с гаком, его сын в сорок… Да если бы только печали, что эта.
— И то правда… На каждую голову рано или поздно приходит своя метель. Подавай, жена, вечерю или завтрак.
Оксана и Миколка вышли из каморки, а Сагайдак стал против своего связного.
— Ты знаешь о нашем горе, о черной измене?
Стах вздрогнул.
— Немного знаю. И колокола по убиенным слыхал в окрестных селах, — прислушался к предрассветной тишине, словно в ней и до сих пор таился похоронный звон. — Беда никогда не ходит одна, — и провел рукой по лбу и глазам.
— Это правда, беда никогда не ходит одна — немало у нее подручных есть.
— На одного уже меньше стало, — намекнул Стах на казнь Кундрика.
— Как Гримичи?
— Позавчера ночью к ним ворвалась полиция, обыскала хату, амбар и клуню, даже в сено из винтовок стреляли. Но, к счастью, Романа и Василя не было дома.
— Догадался шепнуть Лаврину, чтобы хлопцы не наведывались в приселок?
— Сказал, — коротко ответил Стах и вздохнул. — Тетка Олена с горя словно тронутой стала, я сегодня в сумерках видел ее возле ворот. А Яринка приходила ко мне и про вас допытывалась, да я ничего не мог ей сказать. Тогда она обозвала меня бессовестным и злая, как огонь, вылетела из хаты. Такой я ее никогда не видел.
— Чего ей? — забеспокоился Сагайдак.
— С Мирославой Сердюк намерилась идти в партизаны, а близнецы подняли сестру на смех: мол, там только такой болтливой не хватало. И впервые Ярина поссорилась с Романом и Василем, назвала их бестолковыми и расплакалась.
— А о других что-нибудь слыхал?
— Только о Петре Саламахе, — и даже почему-то усмехнулся. — Недаром о нем говорят: если он руки осмолит, то и черта словит… Схватили его полицаи на рассвете в родной хате, а Петро, попрощавшись с женой, только об одном попросил их, чтобы позволили взять с собой четверть горилки. Те обрадовались, рассмеялись, посоветовали еще и закуску прихватить. Вот человек по дороге и начал потихоньку прикладываться к бутыли и словно бы забывать обо всем на свете. Не выдержали полицаи, остановились в лесу позавтракать, еще и Петра подняли на смех, что, мол, нализался натощак, и тоже начали причащаться бесовским зельем. А Петро выждал благоприятный момент, да и улизнул в лес. Только и видели его. Пришлось им за это оплеух в райполиции нахватать. Квасюк на это мастак.
— Где же теперь искать Петра?
— Это же самое он, верно, думает и о вас, кружа по лесам.
— Теперь, Сташе, ко мне на старое место пока не приходи — и его продали.
— Выходит, нет базы?
— Нет, с корнями вырвали. Все, все надо начинать сначала. — Сагайдак помолчал, твердо взглянул на связного. — Может, после этого будешь чураться меня?
Стах сразу нахмурился, сгорбился, собрал морщины на лбу и у переносицы.
— Вы, Зиновий Васильевич, засомневались? Боитесь за меня?
— Не боюсь, человече. Но, может, ты после всего, что случилось у нас и в отряде, растерялся? Может, веру на неверие поменял?
У Стаха беспокойно зашевелились руки, он их сжал до боли, а затем полез за кисетом.
— Почему же молчишь?
— Что мне говорить, если у вас зароились такие мысли? — горечь скрытой обиды прозвучала в голосе Стаха.
— А ты не удивляйся: такое время. Я уже не одного видел растерянного и изверившегося. Потому прямо, как на суде, и спросил.
Стах обиделся:
— К чему разговоры о суде? Разве эта война не суд для каждого? Разве она не разделила все на грешное и праведное? — и замолчал.
Сагайдак понял, что его неосторожное слово ранило душу человека. Как мы часто в суете сует не замечаем этих ран!
— Если я что-то не так сказал, то прости. Но все равно ты должен сказать то, что надо сказать. Говори!
Стах сосредоточенно посмотрел на Сагайдака.
— Тогда скажу, и столько, сколько никогда не говорил. Так слушайте. Я вас тоже спрошу, как на суде, прямо: а кто из нас вот тут, при чужой власти, при сатанинских виселицах, при драконовских приказах, где только и слышишь о расстрелах и смерти, не растерялся? У кого из нас не болит и не плачет душа? Разве ж она знала когда-нибудь такую боль? Но это одно дело, а вера — другое. И если меня сейчас потянут на виселицу с крупповскими блоками, которая уже стоит в нашем селе, если сейчас распнут на гестаповских крюках, — все равно веры моей не распнут, пока я человек, а не требуха. Я могу до поры до времени затаиться, но не покорюсь неволе. Если же вы засомневались во мне, если хотите, чтобы мы пошли с вами вразброд, тогда накормим вас, дадим на дорогу хлеба, дадим самосада — да и бывайте здоровы. А сами тоже начнем думать, куда деваться в эту бешеную годину. Хотя я и мягкий человек, но ни воском, ни глиной не стану в чужих руках, а сам чужие руки буду укорачивать. Вот, к примеру, приехал к нам какой-то вельможный барон и вынюхивает наилучшие земли для своего имения. Так думаете, мы, хотя и растерялись, будем его хлебом-солью встречать? Тогда плохо вы нас знаете. Вот так, Зиновий Васильевич, и не иначе. Одно только и до войны не раз меня обижало: почему некоторые, например, из района, считают — если ты живешь в селе, то уже меньше любишь свою землю, меньше уважаешь революцию и непременно должен быть глупее или непременно с каким-то пережитком? Вот же некоторые, слишком мудрые, назвали нашего украинского хлебороба «хитрым дядькой», еще и радуются, как они умно окрестили его. Не в ту сторону, в какую надо, рос у этих кумовьев ум, так он и черт знает во что может перерасти. Только кому же это, каким радетелям, и для чего необходимо?
— Прости, Сташе, проклятые нервы заговорили, — Зиновий Васильевич обхватил связного руками, поцеловал, а сам себя выругал в мыслях: как мы мало знаем тех, чей огонь годами горит для добрых людей, и как часто хитромудрые советчики бросают тень или подозрение на человека, который молчаливо и верно идет за своим плугом!