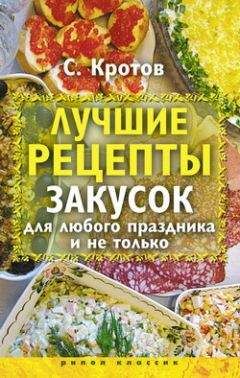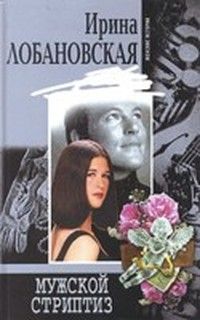Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
Из избы прибежала Агне. Она тоже была в полушубке, готовая в дорогу.
— Я провожу тебя, — сказала, прильнув к плечу Стасиса.
И горечь зависти, и неопределенное желание залило сердце Винцаса: хорошо бы поехать втроем, а назад возвращаться вдвоем с Агне. Но Стасис, словно угадав тайные мысли брата, сказал жестко, словно отрезал:
— Никуда ты не поедешь, это не женское дело.
Так и умчались, оставив Агне посреди двора.
В какую сторону ни повернешь со старой усадьбы Шалны — всюду тебя встретит лес. Вокруг деревенских полей он еще не вошел в силу, еще довольно молодой, потому что когда-то, в годы первой мировой войны, тут все начисто вырубили и вывезли в Германию. Но чем дальше от деревушки, тем больше вековых сосен, подпирающих кронами небо. Из таких стройных могучих сосен только мачты для океанских кораблей делать. А еще дальше начинается пуща, наверно никогда не знавшая ни пилы, ни топора. Высится пуща, сжимая с обеих сторон узкую дорогу высокими стенами, — ни просвета нигде, ни просеки. Только в вышине над головой светится едва различимая полоска. Но и эта тонкая нить света над дорогой с порывом ветра исчезает, кроны сосен сливаются, деревья-великаны переплетаются ветвями, и человек чувствует себя вроде завязанным в мешок. Ветер пролетает по вершинам сосен, пуща вздыхает, еще с минуту качается, дерево что-то нашептывает дереву, утешается, пока наконец столетние затихают в королевстве снов. Но ненадолго. Где-то очень далеко зарождается новый гул, он приближается, нарастает, чтобы через мгновение вновь разбудить вековую пущу. Она просыпается не сразу, не вдруг, а сначала лениво покачивает вершинами, потом тревога сбегает по ветвям вниз, встряхивает толстые стволы, и те скрипят, не находя ни отдыха, ни покоя даже в глухую полночь, когда, кажется, спит все живое. И снова полуночник ветер с гулом улетает вдаль, снова вздыхает пуща…
Винцас правит полулежа, подсунув ноги под теплую попону, зарывшись в сено почти по пояс.
— Спишь?
— Нет, — откликается прильнувший к его боку Стасис.
— Видишь, как получается.
— Теперь вижу.
Шиповник тогда без всяких оговорок сказал, что за каждую поваленную сосну следовало бы срубить голову. «Голов не хватит», — полушутя, почти угодливо засомневался Винцас. «Ничего, головы растут быстрее, чем лес», — сказал Шиповник совершенно серьезно, чтобы никто даже не посмел усомниться в искренности его слов. И еще сказал, что недалеко то время, когда будет предъявлен счет за каждое дерево литовских лесов, которые вырубают без оглядки и отдают даром. «А что делать лесничим, лесникам, если таково указание властей?» Шиповник только рассмеялся над этими словами Стасиса. Во-первых, законная власть Литвы не в Вильнюсе и тем более не в Москве сидит. Она, законная власть Литвы, скоро скажет свое слово. И это слово будет безжалостным к тем, которые в этот трудный час испытаний помогают не истинным борцам за свободу Литвы, а врагам. И еще сказал, что он не понимает и не хочет понять речей о сложностях жизни лесничего или лесника. Кому теперь легко? Если им так тяжело, пусть бросают все и идут в лес. Попробуют другого хлеба. Видать, зуд у них от хорошего хлеба, они только стонут, когда другие в это время страдают, проливают кровь… И вообще — настала пора, когда надо доказать, за кого они сегодня: за пришельцев и новый порядок или за независимую Литву со старыми ее традициями и порядком. «Третьего пути нет. Или — или. Если не с нами, то против нас». И еще сказал, что, вырубая лес, они разрушают дом его, Шиповника, и его боевых товарищей. Судьба леса — их судьба. И вообще вся жизнь истинного литовца неотделима от леса.
Ну, скажем, не каждого литовца, рассуждал Винцас, глядя на узкую полоску света над головой. Далеко не каждого. Но что правда, то правда: человек этого края не прожил бы без леса. Никогда, никогда на землях их деревушки хлеба не полегали от тяжести колосьев, никогда никто, даже богач Пятронис, не гордился породистыми рысаками и не хвастался обильным стадом скота. Пахотной земли в деревне немного, лишь столько, сколько отцы и деды отвоевали у леса. И та не жирная: через лопату, серая, как пепел, а поглубже — чистый золотой песочек. Где уж тут растучнеть пшенице или ячменю, если и горемыка рожь едва по пояс, и ее колос до самой жатвы торчком в небо смотрит. Зато картошка вкусная, беленькая и такая рассыпчатая, какой нигде больше не найдешь. Но и той не каждый год вдоволь, а только в такое лето, когда льет будто из ведра. Здесь землица — что сито. Только сосне за нее уцепиться, и, слава богу, вон какие бескрайние, какие волнующиеся пущи стоят. Поэтому и глядит человек этих краев на лес как на своего кормильца. Лес — сильная подпора человека: отвезешь воз дров в городок — глядишь, и заткнул дыры, и налоги уплатил, и купил все необходимое, без чего не может жить семейство. В лесу и лит, и марка, и червонец растет несеяный-несаженый, только не ленись — нагнись да подними. Сколько черники, брусники, малины и клюквы! И собирают женщины с детьми ягоды до самой жатвы и везут в город, который все, будто ненасытный змей, заглатывает, все съедает. А уж грибов, грибов! На сыроежки или там маслята никто даже не глядит, разве что летом, когда грибы получше еще подо мхом наливаются… А так только боровик и лисичку народ признает. Боровик — он и есть боровик, а лисичку уважают за то, что она никогда не червивеет, прорастает целыми мостами, хоть бери косу да коси. И косят. Не пешком идут, а на повозках едут в лес. Наверно, нигде больше в Литве люди не едут по грибы на повозках, только в этом краю. Не зря здесь поется, что без грибов да ягод местные девки голыми ходили бы. Пуща и обувает и одевает. Нечего говорить — лес крепко поддерживает человека. Но и свое забирает. Особенно в смутные времена. Иногда, кажется, ушел бы от этой жуткой пущи подальше, хоть на край света, лишь бы ночью спокойно смежить глаза, чтобы не мерещилась за каждым деревом безносая…
— Бр-р-р… — поежился Винцас.
— Замерз?
— Где уж тут замерзнуть! В жар бросает, когда обо всем подумаешь. Теперь ты и сам видишь, как приходится крутиться.
— Теперь вижу.
— Всегда легче поучать другого: я бы, мол, на твоем месте так да эдак сделал.
— Я тебе ничего не говорю.
— Говорил.
— Когда?
— Раньше.
И опять оба замолчали, как будто все уже давно высказали друг другу.
А лес вздыхает, вздрагивает, словно человек в тревожном сне. Гнедая бежит под гору ровной рысью, из-под ее копыт иногда летят во все стороны заледеневшие комки снега, и Винцас отворачивает лицо, глубже прячет в высокий воротник шубы. Но на ровной дороге Гнедая все чаще пытается перейти на шаг, и приходится подгонять ее, подстегивать кнутом. Она всегда так: выехав из дому, бежит охотно, но чем дальше, тем медленней, словно сомневается — стоит ли вообще тащиться бог весть куда да еще такой глубокой ночью. Зато домой полетит как ошалелая. Скотина и та понимает, что дом остается домом… Под гору он разрешает Гнедой отдохнуть, не подгоняет, поцокивая языком, позволяет шагать и тогда чувствует, как нетерпеливо шевелится прильнувший к боку брат. Видать, волнуется, боится, как бы не опоздали. Все храбрые, пока никто им на пятки не наступает. Стасялис тоже храбрился, почти каждый день воробьем чирикал: чего мне бояться, чего мне бояться? А когда хвост прижали — и слетела спесь, — лежит, будто пойманный, трясется, лишь бы успеть. Уже не опоздает, осталось три-четыре километра, и все. Кончилась вековая пуща. Только кое-где островки зрелого леса стоят, а так в основном молодняк, и все чаще голые поля — значит, недалеко и шоссе, и железная дорога, где люди роями живут.
Винцас остановился в полукилометре от городка и сказал:
— Хватит. Не надо, чтобы нас увидели на вокзале.
Стасис выкатился из саней, стряхнул с одежды соломинки, нашел в сене свой солдатский вещмешок, а Винцас тем временем наказывал:
— Смотри не подмочи хвост. Тогда всем нам конец… Сам понимаешь. А если будет время — загляни на базар, гвоздей подковных поищи. Гнедая почти что босая… Интересно, который теперь час?
Стасис чиркнул спичкой.
— Половина пятого.
— Через три часа рассветет… Ну, я поехал.
— Вечером приедешь?
— Как получится.
— Было бы хорошо. Ждать не стану, пойду той же дорогой, что приехал.
— Ладно. И да поможет тебе бог, — вздохнул Винцас, дернул вожжи, развернул кобылку и не повелительно, а скорее дружески и просительно подбодрил: — Оппа, Гнедая!
* * *Стасис подошел к горящему красным глазом шлагбауму, пролез под него и прямо по рельсам направился к вокзалу. Шаг по шпалам получался то длинный, то короткий, и скоро стало тепло, размялись застывшие за длинную дорогу ноги, а сна как не бывало, осталась только гнетущая тревога, которая сопровождала его от самого порога. «Пора бы привыкнуть, пора бы привыкнуть», — мысленно успокаивал он себя.