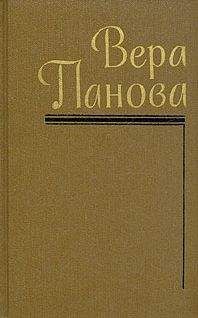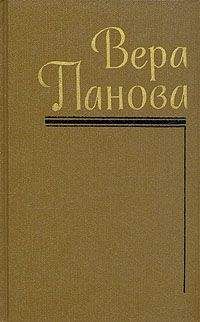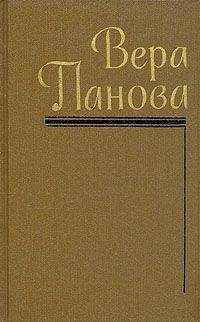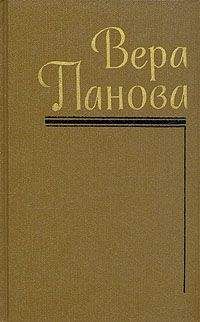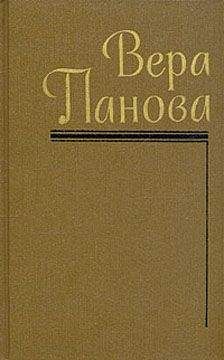Вера Панова - Собрание сочинений (Том 5)
Володю Филова я описала в "Сентиментальном романе" под именем Мишки Гордиенко, он же - журналист Вадим Железный.
21 МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ
Это, стало быть, 1919 год. Я вытянулась и поздоровела, полюбила бегать на "гигантских шагах" и плавать на байдарке, у меня выросли порядочные косички, на конце каждой - длинный, трубочкой, локон, и я переживаю свой первый роман.
Не первую любовь - влюблялась я и раньше. Лет в семь влюбилась в красивого мальчика Васю Петрова, несколько месяцев подряд была влюблена в некрасивого мальчика Андрюшу Кочеткова. Но первый роман переживаю жарким летом 1919 года.
Это несомненно (для меня) настоящий роман, так как он, этот Коля Ф., не только качает меня на качелях и катает на своем велосипеде, усадив на велосипедную раму перед собой, и не только пишет мне записочки симпатическими чернилами (вероятно, попросту молоком), которые (записочки) надо подержать над лампой, и тогда проступают слова, - помимо всего этого Коля Ф. еще сделал себе на руке татуировку: большая репа проткнута стрелой, а под репой мои инициалы, и сестры дразнят его мною.
Старшая его сестра замужем за папиным сослуживцем, теперь директором завода "Красный Аксай". А Коля Ф. приехал к ним погостить, и мы подружились на базе качелей, "гигантских шагов", крокета и байдарок.
Еще весной этого года дядя Сережа велел мне сесть в байдарку, подал мне весло и сказал: "Греби". И, о диво, я стала грести. Байдарку он мне подарил, она стала моя собственная, и я очень этим гордилась. А Коля брал яхт-клубскую байдарку, и мы плыли вниз по Дону рядом, иногда держась за руки.
Не было в этом романе ничего, чего можно бы устыдиться, была река, и небо, и некоторое красование друг перед дружкой, кто лучше гребет, кто одним ударом молотка проведет крокетный шар через две первые дужки и через "мышеловку", был горячий чистый песок, по которому так хорошо идти босыми ногами, да какие-то кустарники с узенькими темными листиками и некрасивыми лиловато-серенькими цветочками, похожими на цветки картофеля, да особенный, очень свежий запах речной воды, когда ты сидишь в байдарке так близко от веселых бегущих струй.
В то лето, едва позавтракав, мы с Леней шли в нахичеванский яхт-клуб (впервые мама нам разрешала уходить одним так далеко от дома). Шли сперва по улицам, мощенным булыжником, потом по деревянному мосту. Издалека виднелась белая ротонда яхт-клуба с большим балконом, подпертым деревянными столбиками, часто на этой террасе уже ждал Коля Ф. и махал нам своей гимназической фуражкой. Под балконом стояли байдарки и весла, на балконе - плетеная мебель, а в первой комнате прежде висел точно такой же, как у нас дома, портрет моего отца - основателя клуба. В 1919 году портрета уже не было, почему-то после революции его сняли, - может быть, сочли отца буржуем, не знаю. Маму это огорчало, нам же, детям, было все равно, у нас в яхт-клубе было много радостей - "гигантские шаги", песок, крокет, байдарки, дружба с Колей Ф., встречи с милым дядей Сережей, который тоже приезжал сюда каждый день.
Он все собирался научить меня плавать, но так и не научил, тут я оказалась совершенно бездарной, всю жизнь плавала как топор. Брат же Леня как-то научился у Коли и других мальчишек и находил в плавании много радости.
Иногда дядя Сережа поручал нам половить вокруг яхт-клуба бабочек для его коллекции. Мы приносили из дому сачок и раза три-четыре даже что-то поймали этим сачком, но всегда оказывалось, что это "что-то" у дяди Сережи уже есть. У него была очень хорошая коллекция, он обменивался бабочками с коллекционерами разных стран, помню в одном из его застекленных ящиков одну особенно поразившую меня тропическую бабочку - крылья у нее были длинные, заостренные книзу, белые, с перламутрово-зеленоватым отливом, и она была похожа на ангелов, как их рисовали в "Задушевном слове".
Я всегда была переимчива, как обезьяна, и мне загорелось и самой собирать коллекцию бабочек. Дядя Сережа подарил мне сачок (зеленый марлевый мешочек на неоструганной деревянной палке) и станочек, на котором пойманных бабочек расправляют и сушат, он давал мне читать книги по энтомологии и показывал всякую всячину под микроскопом, но у меня с коллекцией ничего не вышло, показалось скучно, увлечение угасло очень скоро. Несколько позже я так же зажглась собиранием почтовых марок и так же быстро охладела к этому занятию, вообще я, видимо, не коллекционер по самому складу характера, чего-то во мне для этого недостает, прежде всего - терпения. Но так или иначе недолгие мои занятия энтомологией доставили мне большое удовольствие, и я прекрасно понимаю увлечение бабочками у С. Т. Аксакова и В. Набокова, понимаю, что это может овладеть человеком и сделаться хобби всей жизни.
Вот такое было это лето 1919 года - юное, светлое, бодрящее.
Каждый день мы виделись с Колей Ф. в яхт-клубе, и, несмотря на это, он постоянно писал мне записочки, свидетельствовавшие как о его чувствах, так и о малой изобретательности, ибо на всех записочках повторялась все та же проткнутая стрелой репа, а каплющая из раны кровь была изображена красными чернилами. Но мне было четырнадцать лет, и все это, в том числе красные чернила, нравилось мне чрезвычайно и казалось прекрасной экстраординарностью.
И вот прошло сорок пять лет... Прошло сорок пять лет, мне, стало быть, было пятьдесят девять, я жила в Коктебеле. Дверь моей комнаты выходила на лестничную площадку, на площадке было окно. Как-то утром я вышла на эту площадку, смотрю - на подоконнике лежит письмо. На конверте надписано: "Вере Федоровне Пановой", почерк незнакомый. Я унесла письмо к себе в комнату, прочла и поняла, что это пишет тот самый Коля Ф., только уж, конечно, никаких стрел и прочего, просто приехал в эти края, узнал, что я тут, и просит к шести часам вечера выйти за калитку сада, чтобы повидаться.
Мне стало не по себе - ведь сорок пять лет!.. Моя приятельница Туся Разумовская тоже сказала:
- Вера, нельзя встречаться, вы просто друг друга не узнаете.
Но я все же вышла к шести часам того дня за калитку, к морю, и когда пошел мне навстречу долговязый человек с сильной сединой в волосах - я, представьте, узнала в нем того гимназиста. Да, этот человек был стар, но если отбросить седину и морщины, то черты остались, в сущности, те же, через сорок пять лет они были те же, и я сказала храбро:
- Здравствуйте, Николай Викторович.
Он стал художником-иллюстратором, работал в книжных издательствах, жил в Москве. Через полгода, в мое шестидесятилетие, прислал мне по почте громадную коробку шоколадных конфет, я поблагодарила телеграммой. Больше мы не встречались и не писали друг другу.
Роман же 1919 года окончился тем, что родители вызвали Колю Ф. обратно в Грозный - продолжать учение.
Вот и вся история моего первого романа. Если нет в нем ничего ослепительно прекрасного, то нет ничего и темного - ни крупинки, - и потому я вспомнила о нем легко и без печали.
22 ТРУДНАЯ ЗИМА
После этого радостного лета была долгая трудная зима. Она началась для нас болезнями и невзгодами. Сундук как источник доходов был исчерпан, пришел настоящий голод, когда пшенная каша или вареная картошка кажутся пиршеством, а такие вещи, как масло и сахар, вообще - небывальщина. Вместо сахара на стол подавали крошечные таблетки сахарина. Бросишь таблетку в чай - со дна чашки поднимется белесый, как бы мыльный столбик и вспухнет на поверхности чая белой шляпкой, а чай станет горьким и противным.
Мама заболела сыпным тифом, а я так называемой "испанкой" - тогдашнее название гриппа. "Испанка" страшна была своими осложнениями. В моем случае осложнение было очень странное - у меня началась цинга: изъязвились десны, стали выпадать зубы. Думаю, тут сказалось то, что нам с детства давали мало свежих фруктов и овощей.
Наша детская находилась рядом с маминой комнатой. Няня и бабушка печально переходили от одной больной к другой.
Подошло рождество. Грустно оно подходило - никаких приготовлений к елке, ни нового платья, ни разговоров о подарках. В самый канун сочельника стали раздаваться взрывы снарядов - к Ростову приближалась армия Буденного.
Уже был разрушен тот дом на Таганрогском, позднее на Буденновском проспекте, что описан в "Сентиментальном романе" как дом Хацкера, на самом деле то был дом Рацкера и Хосудовского, в нем помещался белогвардейский штаб.
Среди замыслов, которые мне не удалось пока осуществить, осталась пьеса "Рождество 1920 года", где я хотела написать приход буденновской армии в Ростов.
К звукам канонады мы уже тогда были привычны, она нас не пугала. Няня уверяла, что больных красные не тронут и что она, няня, все устроит хорошо. Взрослые, кажется, побаивались неизвестности, а мы с Леничкой беззаветно верили няне и не боялись ничего.
Я не помню, какое это было число, когда няня вошла и сказала: