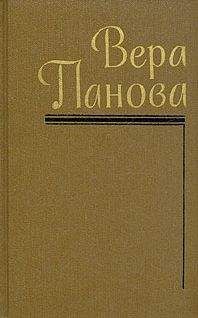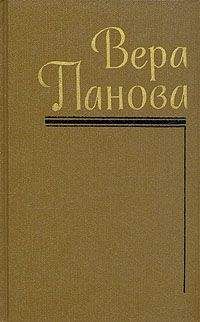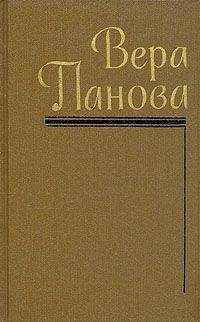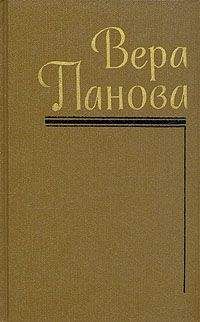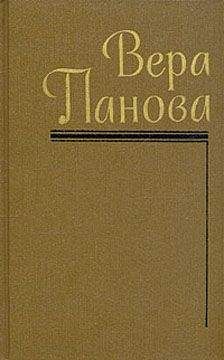Вера Панова - Собрание сочинений (Том 5)
Помню, как потешался мой первый муж, когда бабушка Надежда Николаевна однажды сказала мне при нем: "Подбрось печку и поставь воду на голову". По-русски это бредовая бессмыслица, а по-ростовски означало: "Добавь угля в печку и согрей воду для мытья головы". Водой из ростовского водопровода нельзя было мыть волосы: она была очень жесткая, для мытья головы собирали дождевую, подставляя кадушку под водосточную трубу.
Помимо таких стихийно зарождавшихся языковых вольностей, в речи того времени были слова, происшедшие от тогдашних понятий и событий, уже следующему за мною поколению непонятные.
Так, например, женщина, имевшая многих поклонников, называлась "львицей", кража казенных сумм именовалась "панамой" - в связи с событиями при строительстве Панамского канала. Участь океанского парохода "Титаник", погибшего при столкновении с айсбергом, долгие годы жила в памяти ростовчан, при каждой вести о крупной катастрофе говорили: "Повторяется история "Титаника", как бы заявляя этими словами претензию на причастность Ростова к большому миру и его судьбам. Да, в сущности, претензия эта была справедлива, так как Ростов активно старался не отставать от хода истории, он всем интересовался и на все откликался, его фабрики и заводы вошли в историю революционного движения, он следовал моде не только в одежде, но и в литературе, и в спорте, и в воспитании юношества. А если речь его жителей порой отклонялась от грамматических канонов, то, повторяю, для южных городов это было почти законом, ведь сколько в них смешивалось "племен, наречий, состояний". И это издревле, ибо с незапамятных времен устье Дона было вместилищем разных народов. По нашей степи, поросшей бессмертником и чебрецом, проходили хазары, печенеги, должно быть, еще авары; судя по историческим указаниям, на месте Ростова находилась хазарская Белая Важа, взятая Святославом. Мудрено ли, что каждое племя оставляло здесь свои словечки и обороты.
И в то же время в семьях, вкусивших от просвещения, говорили, помню, нарочито чисто и правильно, именно как бы в пику стихийно сложившемуся искаженному говору. Мне приказывали читать вслух и Священное писание, и светские книги и тщательно поправляли мое произношение, указывали правильные ударения, объясняли непонятные слова.
Я уже говорила, что бабушка Александра Ильинична наизусть знала Некрасова, она и в жизни любила употреблять его слова и обороты. Очень хорошо они с бабушкой Надеждой Николаевной называли друг друга: "сватья Наденька" и "сватья Сашенька", а меня она называла не внучкой, а внукой по-старинному.
Помню, когда у нас в семье поздравляли кого-нибудь с новой одеждой новым платьем или пальто, то непременно добавляли пожелание: "Из этого да в лучшее" - пожелание, вероятно, тоже очень старинное.
Своеобычной и чужеродной струей входит в эти мои воспоминания речь нашей няни Марии Алексеевны. Выросшая в иной среде, приехавшая на наш юг из Тульской губернии, она принесла в семью иные словечки, иную грамматику, какие-то нигде мною больше не слыханные стишки и прибаутки. Она была и грубовата на язык, то и дело, справедливо или несправедливо, отпустит, бывало, и бранное словцо. Но ни ко мне, ни к брату Леничке эти слова как-то не прививались, неведомо по какой причине, скорей всего по стыдливости: мы ненавидели грубые слова, самым бранным - собственно, единственно бранным - было в наших устах слово "дурак". Помню, как я была однажды не на шутку шокирована, даже оскорблена, прочитав в одном атласе подпись "орел-стервятник", мне показалось невозможным, что книга так гадко ругается.
Сказок няня нам не рассказывала, напротив, мы ей читали по ее желанию сказки, как и другие наши книжки, а рассказывала она нам о лесах, которых мы никогда не видели, о том, как хорошо собирать в этих лесах ягоды, грибы и ландыши. Однажды она съездила в свои края и привезла нам гостинец варенье из лесной земляники в крохотных глиняных горшочках, мне показалось - никогда я не ела такого вкусного варенья. А больше всего няня говорила нам о святых мучениках и угодниках, о царствии небесном. И в то же время она нас угощала такими, например, пошлыми, ни к селу ни к городу не идущими и неизвестно где ею подхваченными стихотворными цитатами:
Говорила ему я:
Не ешь ягод, Илия.
Но не слушался
И обкушался,
Вот и помер, как свинья.
Или:
Господин
Сковородин,
По батюшке Шлепкин.
Так я до конца жизни и не поняла, для чего эта набожная старушка, искренне нас любившая, читала нам эти бездарные и бессмысленные стишата. Но, странная игра памяти, стоит мне вспомнить няню, я тотчас вспоминаю и господина Сковородина, и злосчастного Илию, умершего, как свинья, от обжорства. Надо ли говорить, что никогда больше я с этими личностями не соприкасалась. Впоследствии, более чем через полвека, старенькая маникюрша рассказала мне, что про этого Илию ей читали в детстве, - стало быть, была такая книжка?
- Верка, - говорила няня, - засвети лампадку господу, завтра праздник.
И я зажигала лампадку.
- Как стоишь, - говорила она в церкви, - руки раскорячила, повесь долу, как святые отцы велят.
И я вешала руки долу.
20 ВОЛОДЯ ФИЛОВ
Мы жили тогда в доме No 5-б по 1-й линии. Когда собирались гости, бабушка Надежда Николаевна садилась к роялю и играла. Она знала множество вальсов, полек, кадрилей и была прекрасным аккомпаниатором, под ее музыку нередко танцевали в нашем маленьком "зале".
Пела мама, обладавшая прелестным меццо-сопрано, пел арии из вагнеровских опер студент Степа Айвазов, пели очень музыкальные брат и сестра Даничевы - Степа и Маруся.
Иногда, правда редко, пел дядя Саша, муж тети Лили, у него был комический эстрадный репертуар, и аккомпанировала ему всегда тетя Лиля. Некоторые вещи, которые пела мама, мне потом уже никогда больше не попадались, я их помню только в ее исполнении. Я помню ее голос, то грудной, то вспыхивающий светлым каким-то всплеском, и больно мне, больно, что ее нет, что жизнь прожита, что уже ничего не вернуть, даже на секунду.
Я не помню, чей это был романс, который она пела:
В темном зале сейчас только плакал рояль,
Кто-то пел про весну, про любовь и печаль.
И ни у кого, кроме нее, не слышала "Индусской песни" - "Брама, бог правоверных, царь городов священных...", но эти мелодии, напетые ее голосом, буду помнить до последнего конца.
В это время у нас стал бывать Володя Филов.
Неподалеку от нас жила дальняя наша родственница Надежда Николаевна Филова. После смерти мужа (не знаю, кем он был) она купила небольшой дом на углу 3-й линии и Георгиевской улицы и открыла магазин аптекарских товаров. В этом магазине она торговала патентованными лекарствами и парфюмерией, и много там было таких же коробочек, баночек и флакончиков, какие приносила от своего Лемме мама.
У Филовой было четыре сына: Николай, недурно рисовавший, Александр, рвавшийся на сцену, Виктор и Владимир. Эти последние два сыграли в моей судьбе большую роль, особенно Владимир.
Когда он стал к нам ходить, ему было девятнадцать лет, мне одиннадцать. Это была громадная разница, и к общению со мной он снисходил только потому, что я писала стихи. Он сам их писал, и все его окружение писало, а в этом окружении была Сусанна Мар, и была Нина Грацианская, и был Георгий Шторм; все они позже стали писателями.
Володины стихи были плохи, немногим лучше моих, но не в этом дело.
От него я услышала, что необязательно аккуратно посещать гимназию и слушаться старших. Я услышала, что непослушание лучше, чем послушание, достойнее. Тихой мещанской девочке, старательно делавшей реверанс перед взрослыми, такие бунтарские мысли не приходили в голову, хотя она уже читала Писарева и была знакома с Евгением Базаровым и Марком Волоховым.
Очевидно, нужно было, чтобы все эти бунтарские слова произнес живой голос. И Володя Филов их произнес. Со своими друзьями он издавал рукописный журнал "Юная мысль". Он поместил в этом журнале какой-то мой стишок. Я была счастлива, только обиделась на то, что под стишком было подписано: "Верочка Панова, ученица 1-го класса", - в упоминании о 1-м классе мне почудилась дискриминация.
Володя был очень похож на свою мать, такой же, как она, белолицый и полный, с пухлыми руками и маленьким ртом. Он ходил в черной тужурке с обтрепанными рукавами. Поступил в Ростовский университет, мечтал о литературе, знал наизусть множество стихов. От него я впервые услышала слова: "ничевок", "имажинист" и имя Велемир Хлебников. Володя восхищался Хлебниковым, а позднее - Сергеем Есениным. Мы перебирали имена поэтов и строчки стихов, сидя в маминой комнате перед жарко натопленной печкой. Мы пекли каштаны в горячих угольях, каштаны, лопаясь, громко стреляли, вкусны они были (или казались) необыкновенно.
Володю Филова я описала в "Сентиментальном романе" под именем Мишки Гордиенко, он же - журналист Вадим Железный.