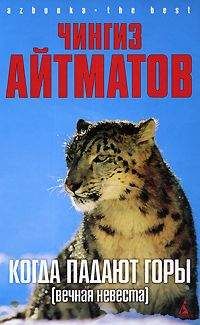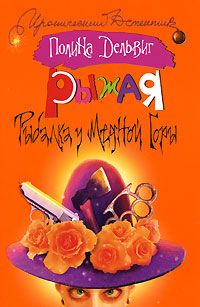Аркадий Первенцев - Гамаюн — птица вещая
Парранский, подавленный смертью Шрайбера, слушал Стебловского невнимательно. Он думал о своем сердце, которое пошаливало, и всякий раз, когда он уходил из дому, жена напоминала, чтобы он не забыл пузыречек с валидолом.
У ворот крематория Парранский вышел из своего «газика». Из другой машины вылез Ожигалов и тут же закурил, пряча папироску в кулак, быстро затягиваясь и выпуская дым через широкие ноздри. Мимо Парранского прошел Ломакин, говоривший заместителю начальника объединения о необходимости подыскать кандидата для замены Аскольда Васильевича Хитрово. Молодой вышестоящий начальник уже знал о Хитрово, считал его ничтожеством и советовал «гнать в шею как можно скорее». К чести Ломакина, он не соглашался с мнением вышестоящего начальника: «Нет, нет, в данном случае нельзя так поступать. Мы его проводим достойно. Мы не азиаты...»
Немцы приехали на автобусе и, сгрудившись в кучку, сговаривались о поминках в складчину. Вилли, которого Парранский хорошо знал как специалиста по спецстеклу, тут же принялся собирать деньги, занося цифры в записную книжечку. Немцы говорили о Мартине, осуждая его поведение, и вынесли решение не приглашать его на поминки, а если явится незваный — не допускать.
Парранский бывал в Германии, отлично знал немецкий язык, и ему поручили неприятную миссию — уволить Мартина. Сейчас Парранскому не хотелось думать о Мартине. Парранский знал и понимал Германию Шрайбера, но не знал и не понимал Германии Мартина. Не представляя еще себе будущих трагедий, Парранский не беспокоился о России, но ему было жалко Германию Шрайбера, ее чистые города, добродушных северных девушек и черноглазых саксонок, вересковые долины и березовые аллеи, немецких детей, женщин с неизменным вязаньем в руках.
Шествие двинулось к мрачному зданию из серого бетона, с широкой трубой, из которой в бесцветное небо поднимался дым. На лестнице толпились прилично одетые люди и, как на церковных папертях, стояли побирушки, протягивая свои ладони, собранные лодочкой. Впервые попав в крематорий, Парранский невольно попытался определить его пропускную способность и возможности дальнейших реконструкций. Эти мысли отвлекли его от драматизма минуты. Он вполне овладел собой и стал собираться с мыслями перед выступлением, которое ему было поручено и которого он немного побаивался.
Гроб поднесли к оборудованному широкому люку с двустворчатыми крышками, поднимавшимися и опускавшимися автоматически, и установили его на них.
Когда последние приготовления были закончены, Стебловский шепнул Ожигалову, и тот, покачивая плечами и держа кепку в руке, пошел к трибуне, напоминавшей церковный амвон. Парранский почувствовал обмирание сердца. Его пальцы испуганно пробежали по карманам, прежде чем он вспомнил, что валидол в брючном кармашке для часов. Парранский лихорадочно, боясь промедлить секунду, поднес пузырек ко рту. Только теперь слова Ожигалова дошли до него. Ожигалов с трибуны всегда говорил плохо. Он назвал покойного человеком, который «высоко нес знамя партии», и это как-то не подходило к Шрайберу — маленькому, суетливому старичку, любившему пиво и вышивания.
Когда пришла его очередь, Парранский сказал о том, что большинство людей в жизни — маленькие, скромные, незаметные; они не понимают толком своего значения и только в критические моменты раскрываются во всей своей сущности. Оценить по достоинству их можно только на расстоянии, отбросив мелочи и поняв главное. Шрайбер — сын истинной Германии, не той, которая сейчас марширует под стук барабанов.
Возможно, ему, беспартийному человеку, не место говорить здесь о политике, но перед ликом смерти ему захотелось сказать именно так, он не имеет права лгать или утаивать. Нередко его понимали превратно — возможно, он сам виноват в этом, а сейчас ему хочется говорить открыто, не стыдясь своих собственных чувств...
Николай Бурлаков вместе с Наташей стояли в толпе, почти у самых дверей. С волнением он слушал надгробное слово Парранского.
Шрайбер отдал жизнь за дело рабочего класса. Да и как могут рабочие поступать по-другому? Индустрия требует жертв и сознательности. Если заводы только чудовища, пожирающие здоровье, время, мозг человека, — зачем нужны такие жертвы? Если заводы помогают рождению пролетарской правды, заглушают бой фашистских барабанов, помогают уничтожить зло, погубившее Шрайбера, — тогда ничего не жалко: ни мозга, ни времени, ни здоровья.
Парранский говорил с рабочим классом и о рабочем классе.
Стебловский, работая локтями, пробрался к нему. Вытянув шею, внимательно слушал Парранского.
— Алексей Иванович, я его категорически предупреждал, — сказал он, оправдываясь.
— О чем? — Ломакин продолжал слушать Парранского.
— Затянул Андрей Ильич. Еще Майеру говорить намечено, а время поджимает.
Ломакин нагнулся к Стебловскому:
— Время подождет.
Стебловский только развел руками в крайнем изумлении. Человек дела, он не доверял словам и всякие речи считал пустяком, данью условности.
Парранский закончил тепло, бороденка его дергалась от волнения, пальцы дрожали, поправляя пенсне.
— Жаль, здесь не положено, а то похлопал бы Андрею Ильичу, — сказал Ломакин вышестоящему начальнику, которого брала досада на самого себя: он сознавал, что ему-то надгробное слово не удалось.
— Да, ничего сказал... — сдержанно похвалил он. — Теперь послушаем немца. — И добавил: — У нас даже похороны похожи на пленум Коминтерна...
Тихий, незлобивый Майер неожиданно распалился и со всей силой обрушился на Гитлера. Это имя в то время еще не получило зловещей известности, и Майер как бы приоткрыл завесу над смыслом событий, проходивших в Германии. Он называл убийц убийцами и требовал им кары. Его слова, произнесенные на ломаном русском языке, воспринимались как обнаженная правда. Это говорил человек оттуда, и ему нельзя было не верить.
— Надо было его предупредить, — вышестоящий начальник недовольно поморщился, — здесь же не митинг протеста. Необходимо помнить, что с Германией у нас дипломатические и торговые отношения...
К зданию крематория подъехал «паккард» с двумя рожками так называемых кокков — сигналов, устанавливаемых на правительственных машинах. Из «паккарда» выскочил человек в коверкотовом костюме и желтых полуботинках и, быстро взбежав по ступенькам, прошел в здание. Глазами он отыскал Ломакина и, по-хозяйски раздвигая толпу, подошел и передал ему пакет.
— От товарища Орджоникидзе.
Ломакин взял пакет, полагая, что это какое-то новое сверхзадание, и потому, вскрывая, не таился от своего начальника. Тот почтительно наклонился к пакету.
На трех бланках большого именного блокнота Орджоникидзе писал Шрайберу, как живому, своим крупным почерком.
— Товарищ Орджоникидзе очень сожалеет, что не может присутствовать лично... — сказал человек, прибывший с пакетом. — Он просил огласить свое письмо. — Поймав недоумевающий взгляд Ломакина, тут же объяснил: — Для нас это несколько необычно, но в Грузии пьют з а з д о р о в ь е даже покойных.
Ломакин кивнул и быстро направился к трибуне.
— «Дорогой товарищ Шрайбер! — писал нарком. — Я только что вернулся с Урала, где строят заводы социализма, и меня поразила тяжелая весть о Вашей безвременной кончине...»
Это были слова не для газеты, не для сборника речей, не для мемуаров воспоминателей. Нарком писал для немецкого пролетария, коммуниста, и для всех тех, кому нужно было услышать его интимное слово.
Стебловский махнул рукой, орган наполнил храмовый зал звуками Баха. Безупречно работавшие механизмы постепенно опустили гроб.
Пожалуй, только одна Марфинька не испытывала чувства скорби. Нельзя сказать, чтобы ее не волновали речи и траурные церемонии. Но Шрайбер был для нее человеком посторонним, старым, что также имело немалое значение, ибо люди для Марфиньки прежде всего делились на старых и молодых, и только потом брались в расчет их нравственные достоинства. Вся эта печальная обстановка обострила ее страх за Жору, за его судьбу.
— Жора, подойди к нему, — Она плечом подтолкнула Жору к брату, стоявшему возле стены с урнами, покоившими прах сожженных людей.
— Неудобно, — отнекивался Квасов.
— Почему неудобно? Не дури.
— Что я ему скажу?
— Все, что наболело...
— Не доктор же твой Колька, — попробовал отшутиться Квасов.
— Он друг, — упрямо повторила Марфинька. — Друг важнее доктора, важнее профессора. Ты с ним сейчас ни о чем и не говори... Только условься, когда зайти к нему. Зайдем вместе. Наташа сказала, что завтра они поедут в институт. Вот и договорись встретиться попозже, после института.
— Хорошо.
— Что хорошо? — упрямо настаивала Марфинька. — Будет хорошо, а сейчас плохо. Какого человека свалили!.. Сам Орджоникидзе его знал... А ты...
Марфинька добилась своего, и друзья условились о встрече. К Марфиньке подходили подруги, что-то спрашивали. Она никого не замечала, все они казались ей на одно лицо, и всем она отвечала одно и то же: