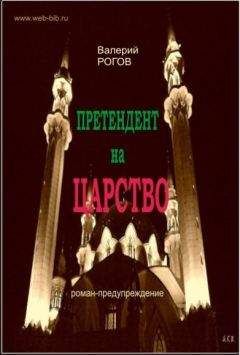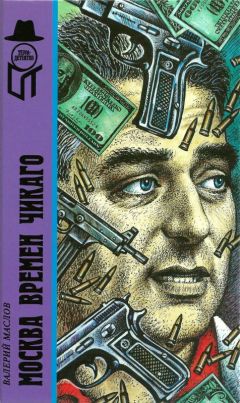Валерий Рогов - Нулевая долгота
Так он и доложил все отцу. Помнит: отец задумчиво потрепал его вихры и очень серьезно заговорил: «Вот что, Иванька. Ты теперь, значит, почти большой. А с человеком, значит, всякое случается. Потому помогай матери. Понял?» — «Понял, папаня», — послушно ответил он. «Ну вот, значит, так и договорились, — серьезно продолжал отец. — А у деда Большухина учись. Дед справно крестьянствовал. И плотник знатный был. На всю округу плотники Большухины славились. Как и мы, Окуровы. Всегда-то соперничали. Эх, было! Мне бы, конечно, тебя уму-разуму учить, да вот, значит, обстоятельства жизни супротив. Хоть от деда кой-что перемай. Понял?» — «Понял, папаня», — отвечал Иванёк. Отец крепко прижал его к себе и долго держал, гладил по голове. На том и закончилось навсегда его общение с отцом.
Трудовая жизнь Иванька Окурова началась в войну, когда ему не исполнилось еще и семи лет, — пас колхозных телят. Сам председатель Петраков при всем народе его в колхозную ведомость записал — на трудодни. Все уже знали, что его отец, Михаил Окуров, погиб под Минском — похоронка пришла. Но Иванёк не верил бумажке. Он и мать, почерневшую от горя, как мог утешал. «Ты, маманя, не убивайся, — говорил он ей. — Наш папка завсегда подолгу отсутствовал. Вот увидишь, он обязательно явится». — «Ах, Иванёк, — плакала мать, — твоими бы устами мед пить».
Дед Большухин — откуда и силы наскребал! — тоже включился в колхозные дела: то конскую упряжь починит, то мешки залатает, то что другое справно исполнит. «Нам по-сичасному, — повторял дед, — главное — немца одолеть. Кому на войне, а кому в тыле. Нынче ни старому, ни малому отлынивать не положено».
К десяти годам Иванёк стал настоящим колхозником. Всему научился — и коней запрягать, и коров доить, и землю пахать. Дед Большухин был его постоянным советчиком. Уроки деда Иванёк усваивал с лету. Дед растолкует ему, а Иваньку всегда в радость все самому осваивать. В сорок четвертом они с дедом на одворицах необыкновенную картошку вырастили.
Председатель Петраков тогда выделил им старого жеребца. Прынцем звали. До войны и еще в первый военный год Петраков сам на нем ездил. Статный был коняга, красивый, золотистой масти. Но в сорок четвертом уже стар — шестнадцатый год жил на свете. Петраков достал им и семенной картошки. С наказом: сам-сороковую вырастить. «Это уж от бога, Тихон Гордеевич, а мы не оплошаем», — обещал дед.
Иван помнит: в ту весну прямо-таки помолодел старый гренадер. С большой охоткой взялись за дело. Между прочим, в войну и деда Большухина зачислили в колхозники. «Эх, соколик, — радовался дед, — покрестьянствовать хочется напоследок. Поучу и тебя, как землю любить. Сам-сороковую? Дадим тебе, Тихон Гордеевич! С детские головки вырастим! На удивленье! — хвастался старый гренадер. — А там помирать можно. Да, соколик, срок подходит. Вон и война на победу повернулась. На победу, соколик! Так-то!»
В начале мая, после Егория-победоносца, дед велел Иваньку привести Прынца к дому. За Иваньком, понятно, и младшие братья увязались — Гришка с Петькой, да и вся беспризорная мелюзга. Иваня Окуров для них главным командиром был: ведь работник наравне со взрослыми! Ох как мелюзга завидовала ему: вот даже председательского жеребца доверили! Прынца вели под уздцы всей ватагой. Каждый стремился вцепиться в поводок. Иванёк, посмеиваясь, всем по очереди разрешил, не выделив никак своих братьев.
Дед их ждал. Сам на ощупь принялся снаряжать Прынца: очень уж старому хотелось! Прынц не дурил, стоял смирно — слушался деда. Он не подозревал, для чего его готовят, и потому не волновался. Но прежде всего ему было приятно слышать далекие и забытые слова, которые ласково произносил большой немощный человек.
И вот началась пахота — первая в жизни Иванька. Сначала все не ладилось. Прынц, оказалось, не привык и не любил тянуть за собой тяжелый плуг. А у Иванька ни умения, ни силенок не хватало. И конь, и пахарь злились и нервничали. А что дед? Он-то ведь только словом советчик, а на дело такое давно негоден.
Мимо проезжал на молодой кобыле сам Петраков. Остановился, угрюмо смотрел, потом тяжело слез на землю — толстый, кривоногий, недовольно-сердитый. Он был в темно-зеленом, глухо застегнутом кителе, синих галифе, блестких хромовых сапогах. Молча взял у Иванька плуг и неожиданно споро, легко принялся пахать. «Вот это ты правильно, Тихон Гордеевич. Учи мальца, — обрадовался дед. — Кто же за нами, как не оне? — И строго советовал: — Только больше десяти вершков пока не бери. Слышь меня? Рано еще глубже землю трогать. Обидится она. Слышь ты меня, Тихон?» — прикрикивал недовольно. «Слышу, дед, помалкивай», — грубо обрывал председатель.
Петраков, пройдя три борозды, подозвал Иванька: «Ну давай попробуй сам». Пошел рядом, поджимал плуг, поправлял. Потом остановился, придирчиво наблюдал. Ничего не сказав, вернулся к кобыле, неуклюже влез на нее, наблюдал сверху. Сапоги потускнели, покрытые толстым слоем пыли; мясистое лицо раскраснелось, вспотело; сдернул высокую фуражку, вытирал платком затылок, шею, лоб и все следил неотрывно, сумрачно. Иванёк старался вовсю, и у него уже получалось. «Ну, бывай, дед», — бросил старику Петраков и уехал.
В конце мая, после Николы-угодника, Иванёк уже с уверенностью пахал, хотя и труднее было: дед наказал брать глубже. Но трудность не в этом оказалась: надо было через длинный — взрослый! — шаг в мягкую рыхлую землю — в самый пух! — класть клубень, да к тому же так борозду вести, чтобы отвалом земли предыдущая засыпалась. Но и к этому Иванёк приноровился. Женщины только ахали: вот мужичок с ноготок объявился! «Ну и малец! Ну и пахарь!» — хвалили в один голос. И завидовали Евдокии, его матери.
Все то лето Иванёк занимался картошкой на приусадебных участках колхозниц, чтобы не отрывать их от работ в поле, на скотном дворе — всюду. В июне, когда она дала рост, он ее окучивал. Опять же плугом, а перед цветом еще раз опахивал. Дед учил, что это обязательно «надоть» сделать, пока ботва прямая, не развалилась. Цвела картошка в тот год долго, с месяц. А известно: чем дольше она цветет, тем лучше и больше клубни получаются. Иванёк с дедом радовались. В начале сентября, к пресвятой богородице, собрали они урожай: сам-сороковую! Отдельные картофелины действительно размером с детскую головку повырастали. Все хвалили старого да малого, но особенно Иванька. Он в героях ходил. Прославился на всю округу. Похоже, с тех пор частенько хорошую картошку окуровской называют.
В тот же год в октябре, сразу после покрова, дед Большухин умер. Его смерть напугала Иванька: не мог он представить себе, что это такое. Но он преодолел страх и даже помогал одноногому конюху Хухрыгину обмывать сухое, костлявое тело, снаряжать деда в выцветший, поеденный молью суконный китель, о чем, оказывается, старый гренадер просил председателя Петракова. Потом помогал строгать доски на гроб, а подвыпивший Хухрыгин все мычал под нос: «…могучее, лихое племя. Богатыри! Не вы!..» Послали телеграмму в Кострому, а оттуда ответили: умерла в сорок первом…
Деда Большухина хоронили всем колхозом. День был холодный, безветренный. В высоком небе грустно светило неяркое белое солнце. Бабы — и молодые, и старые — все плакали, некоторые навзрыд. Конечно, не столько по древнему деду, а прежде всего по своим неведомо где погибшим мужьям и сыновьям. Так получалось, что тут, дома, столетний гренадер олицетворял их всех.
Петраков приказал хоронить деда у разрушенной церкви Спаса Всех Убиенных, рядом со склепом князей Тугариновых. Три километра до бывшего церковного кладбища Иванёк сам правил Прынцем, сидя на краешке длинного гроба, занявшего всю телегу. Прынц двигался медленно, опустив голову, с глазами, полными тоски, — казалось, он все понимал. Иванёк почти не плакал, старался держаться как взрослый мужчина. Разрыдался только тогда, когда гроб опускали в землю и бабы отчаянно заголосили. Ему показалось, что он остался на белом свете совсем один. Тогда он не мог еще осознать своего одиночества, но чувствовал, что это случилось. Мать после гибели отца относилась к нему как к взрослому, потому что он был вполне самостоятельным, помощником ей. Свою любовь и ласку она отдавала младшим — Гришке и Петьке. Ивану доставались лишь попреки да раздражение, которые, будь жив отец, наверняка адресовались бы ему. Мать не раз с криком, безжалостно обижала его, уверяя, что Гришка с Петькой — в нее, в ее породу, а вот он, Ванька, — весь в отца: такой же упрямый и замкнутый. «Незнамо мне, чего он думает, чего хочет», — громко жаловалась подругам Евдокия. «Да не греши, баба, — вступались те за Иванька. — Вон же какой работник! Получше любого взрослого!» — «Незнамо! — твердила мать. — Тяжело мне с ним».
Иванёк действительно не умел быть с матерью ни ласковым, ни откровенным, таким, каким он бывал с отцом или с дедом Большухиным. Поэтому то острое одиночество, та гнетущая бесприютность, которые не то обожгли его душу, не то охладили его сердце на кладбище у церкви Спаса Всех Убиенных, постоянно возникали в нем на самых разных этапах его последующей жизни. И куда бы он ни бежал от бесприютности, как бы и с кем бы ни спасался от одиночества, они всегда настигали его.