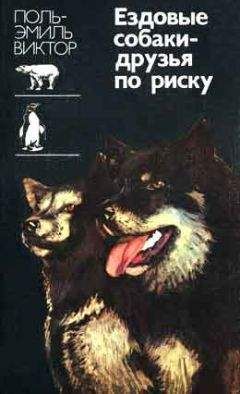Виктор Конецкий - Том 4. Начало конца комедии
Конечно, каждый здоровый человек ни о чем так мало не думает, как о смерти. Но разве наше стремление узнать нечто о мире и себе, мое торопливое стремление к истине не обусловлено надвигающимся концом? Разве я буду торопиться познать себя, если смогу заниматься этим неограниченное время? Сам Мир потому, вероятно, и не способен к самопознанию, что беспечен от своей бесконечности.
Мелькали по бокам аллей имена усопших, чаще нерусские. Среди них вызывал удивление «Егорушка Прокудин, замсекретаря парткома ВКП(б) Электрозавода». Почему-то замсекретаря назван был детским именем, а ниже — «Лучшим борцом за мировой электрогигант». И дата — 1931 год.
А рядом возвышался могучий крест из старого, уже выветренного камня. Под крестом покоился князь Петр Петрович Ишеев, родившийся 12 ноября 1862-го и почивший в бозе 29 апреля 1922 года.
За князем взгляд наткнулся на скромную, даже какую-то небрежную могилу. Ее можно было назвать «захоронением». Тяжкий гранит и мрамор не давили прах. На металлических стойках, уже тронутых ржавчиной, укреплена была металлическая доска с шестью именами одного и того же человека. Профиль человека — бодро-старого, лысого, с очками на зорких глазах — был изображен на доске скупыми штрихами. Ниже профиля золотилась ветка лавра.
Если правда то, что разведчик должен иметь внешность незапоминающуюся, неброскую, то Вильям Генрихович Фишер Абель Рудольф Иванович сохранял верность этому принципу и после смерти. И опять мне нелепо подумалось, что великий разведчик, быть может, и не покоится под серыми каменными обломками. А еще под одним именем приходит к себе на могилку и тихо ухмыляется, поливая цветочки и замазывая суриком ржавчину на металлической доске.
Рыжая кошка выскользнула из куста замерзшей бузины, жалобно мяукнула, глядя мне в глаза, и села на пухлый снег возле могилы Абеля.
Кошка была очень живая и теплая.
Когда мы называем кусок материи живым? Когда он продолжает «делать что-либо» — двигаться, обмениваться веществами с окружающей средой и так далее, и все это в течение более долгого времени, чем, по вашим ожиданиям, мог бы делать неодушевленный кусок материи в подобных условиях. Если неживую систему изолировать, всякое движение в ней скоро прекращается в результате различного рода трений; разности электрических и химических потенциалов выравниваются, вещества, которые имеют тенденцию образовывать химические соединения, образуют их, температура становится однообразной благодаря теплопроводности. После этого система в целом угасает, превращается в хаотичную инертную массу материи. Достигнуто неизменное состояние, в котором не возникает никаких заметных событий. Физик называет это состоянием термодинамического равновесия или «максимальной энтропией», лирик — смертью.
Мир стремится к неупорядоченности, во всем есть тенденция переходить от менее вероятного состояния к более вероятному, то есть от более сложного к менее сложному. И каждая клетка нашего организма, вообще-то, жаждет расползтись на простейшие составляющие, то есть на молекулы и атомы. Но какой-то закон или приказ заставляет наши клетки и сорок, и пятьдесят, и даже сто лет опять и опять усложняться, сохранять сверхсложную и безмерно нежную поэтому организацию (по Шредингеру).
Наши клетки питаются куриными яйцами, хлебом, то есть семенами пшеницы, и мясом, то есть такой сложнейшей системой, какой в свою очередь является корова. И все эти чудеса природы, всю сказочную сложность зародыша жизни — яйца или зерна — наш организм превращает в отбросы, то есть в нечто близкое хаосу, оставляя себе сложность.
Сложность клетки так велика, что клетка в процессе существования не может не совершать молекулярных ошибок. Совокупность ошибок со временем нарастает, и в какой-то момент клетка уже не в состоянии их скомпенсировать. Во всяком случае, не может, существуя в прежнем виде. Деление клетки есть что-то вроде обновления, после чего процессы начинают течение как бы вновь, но какая-то часть ошибок остается и накапливается от одного клеточного поколения к другому, быть может на атомном уровне. Это накапливается энтропия, то есть хаос, то есть смерть. Аналогично накапливаются ошибки души. И иногда душа умирает, впадает в хаотичность раньше тела.
Я приласкал живую и теплую кошку и позвал ее за собой, но она не пошла. И я один бродил среди надгробий, пока не наткнулся на особенное.
Обнаженная девушка выдвигалась из глыбы белого мрамора. Одна рука ее безвольно висела, другая тянулась к волосам, будто надеясь облегчить гнет их мраморной тяжести. Изваяние было окружено беззвучным криком, потому что это была работа большого, вдохновенного ваятеля. Это его беззвучные слова, стенания и напевы застыли в мраморе.
Увы, художник, вероятно, не предполагал, что хозяева надгробия рационально укроют мрамор пошлой прозрачной пленкой. Такие применяются для занавесок в ванных комнатах. Владельцы оберегают статую от вредного влияния городской атмосферы.
В черных глубинах памяти хранится встреча.
Нева. Ночь. Дождь. Гранитный спуск. Девушка на краю последней ступеньки.
Она оказалась немой и хотела утопиться. И я отвлек ее, и проводил в черно-серый дом на Мойке. И все это таится во мне уже четверть века странным сном, шелестом страниц юношеской книги. И я уже не знаю, была ли на самом деле немая девушка, и Нева, и ночь, и дождь, и гранитный спуск к черной волне. Но несколько раз я встречал женские лица, которые напоминали ту девушку, — значит, она была, и во мне хранится тень ее образа. И встреча с похожими на нее женщинами — а надгробная статуя тоже была похожа — вызывает во мне то давнее юношеское переживание. Ведь все наши прошлые душевные состояния хранятся в нас, как хранится в закрытом рояле вся музыка мира. Что-то или кто-то тронет клавиши, и возникнет та мелодия, которая давно забыта, но ее ноты не истлели на душевном складе. Конечно, плеск живой жизни почти мгновенно заглушит эту мелодию. Но она успевает подарить нам прошлое, давно исчезнувшее в хаосе времени.
Быстро утомившись от множества соединений несоединимого, я пошел к выходу с кладбища, срезая углы аллей по межмогильным узким тропкам. И старался даже не глядеть на имена вокруг, чтобы не будить в себе бесплодного любопытства к чужим жизням и смертям.
Возле могилы Абеля уже не было кошки, там топталось семейство упитанных людей. Они громко спорили о том, является ли Рудольф Иванович Фишер прототипом Штирлица из «Семнадцати мгновений весны».
Рядом была «Общая могила № 2. Захоронение невостребованных прахов. 1943–1944 (включ.)». И тяжело было слушать громкие упитанные голоса возле безответного праха тех, кому совсем уж не повезло и в жизни, и на том свете, у кого здесь не осталось даже имени.
А напоследок судьбе угодно было подарить мне светлое.
В глубине квартала-квадрата в тени старых деревьев я невольно остановился у надгробия, вокруг которого и сам морозный воздух-то двигался с особым изяществом.
Овал женского лица в овале медальона, три нитки жемчуга на обнаженной шее, покатость плеч, какой почему-то и вовсе нет у современниц. И не без надменной отчужденности взгляд.
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГАРТУНГ
(УРОЖД. ПУШКИНА)
ДОЧЬ ПОЭТА
1832–1919
Две лиловые астры лежали на чистом снегу.
Куда бы ни носила судьба, Пушкина и пушкинское встречаешь всюду. Вероятно потому, что просто-напросто носишь Пушкина в себе, как морскую соль в крови.
У каждого есть мать. Каждый нормальный человек любит мать ровной сыновней любовью. И кажется, что сила любви и мелодия ее не могут измениться, не могут стать глубже и сильнее. Кажется, что ты любишь мать так, как дало небо, со всей способностью к этому чувству. Но вот мать умирает. И тогда оказывается, что ты любишь ее с еще большей силой и с каким-то иным, мучительным, но прекрасным качеством чувства. Даже своей смертью мать обогащает твою душу и углубляет твою связь с миром, с его бесконечностью и красотой.
Пушкин рождается, живет и умирает при каждой самой мимолетной встрече не только с произведениями его гения, но просто с его именем. И его трагический конец каждый раз углубляет нашу любовь к нему. И непонятно, как может чувство делаться все интенсивнее и прекраснее без конца. Но так происходит.
Такого обновляющего влияния, какое оказывает сама физическая гибель Пушкина на русского человека, у других народных поэтов в других странах не знаю. Вероятно, наша раздерганная ошибками и сомнениями душа, накладываясь на поэзию Пушкина или даже просто на его светлое имя, начинает попытки собраться по образцу его гармонии.
Так магнит собирает хаотическую металлическую пыль в сложную и прекрасную гармонию силовых линий, если встряхнуть бумагу с пылью над ним.
Когда пытаешься войти в душевное состояние Пушкина, Лермонтова или Чехова накануне их смерти, то кажется, что главная боль терзала их оттого, что они понимали, сколько не успели, сколько не свершили. Они не могли не знать своей великой цены и не чувствовать в себе великих душевных сил, не использованных еще и на десятую долю. И как им от этого сознания невыносимо тягостно было умирать, и как они и звуком не дали этого понять, и какая высшая российская скромность в их молчании о главной тяготе.