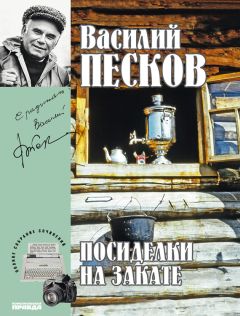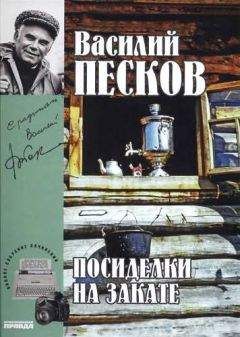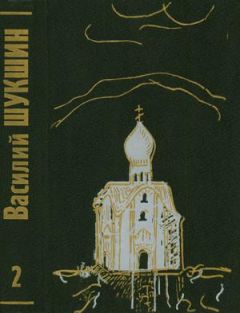Василий Шукшин - Том 3. Рассказы 70-х годов
Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту
Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:
– А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.
Лобастый медленно смеется.
Этот лобастый – он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь… Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина – Жизнь. Но только – кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот – ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит… Спокойно, верно, обдуманно:
– А денечки идут.
Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:
– Да. Не идут, а бегут, мать их!..
Но не я первый додумался, что они так вот – неповторимо, безоглядно, спокойно – идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами – верно и вовремя сказанными – поймать за руку Время. Вот же черт!
Лобастый медленно (он как-то умеет – медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.
– Эх, да не зря бы они бежали! А?
– Да.
Только и всего.
Лобастый отломал две войны – финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой… компактный, так, что ли, рассказ:
– Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться – каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька – только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она же – сукно – шает, я не учуял. Новенькая шинель.
– Убивали же там!
– Убивали. На то война. Тебе уколы делают?
– Делают.
– Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают – так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают – в башке не гудит и по телу ничего не слышно.
…И вот Носатый прет на Лобастого:
– Да их же нельзя вместе-то! Их же… Во дает! Во тункель-то!
– Не ори, – советует Лобастый. – Криком ничего не возьмешь.
Носатый – это не загадка, но тоже… ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает – съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.
– Трихопол?! – кричит Носатый в столовой. – Это – для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! – И таков дар у этого человека – я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.
Третья бледно-зеленая пижама – это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колено брить – зачем?..
Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.
Да, еще про Носатого… Его фамилия – Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:
– Кто это такой умный нашелся?!
– А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка – Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете… – пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.
– Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня – карандаш, завтра – нож в руки!..
– Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот…
– Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный…
Очкарик побледнел.
– Кто?
– Сказать? Может, носом ткнуть?
Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.
– А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.
– За такие шутки надо… не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.
Дурак он. Дурак и злой.
– …Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! – кричит Суворов. – Он же ее съест!
– Связать, – предлагает Курносый.
– Кого связать?
– Волка.
– Нельзя, тункель!
– А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты…
– Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей…
Лобастый упорно думает.
– Как все покричать любят! – изумляется Курносый. – Знаешь – объясни. Чего кричать-то?
– Полные тункели! – удивляется в свою очередь Суворов. – Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну – объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?
– Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.
– Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами – в сторонку, а за них думай!
– Волк капусту не ест, – размышляет вслух Лобастый. – Значит, его можно здесь оставить…
– Ну! ну! ну! – подталкивает Суворов.
– Не понужай, не запрег.
– Давай дальше! Волк капусту не ест… Правильно начал!
Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.
– Начать – это начать, – бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. – Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?
– Ну!
– Плывем назад, берем капусту…
– Ее же там коза сожрет! – волнуется Курносый.
– Сожрет? – спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. – Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.
– А тут волк!
– А мы волка – туда. Пусть он у нас капустки опробует…
Суворов радостно хлопает Лобастого по спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки, и пушка на это никак не вздрогнула.
– А-а! – догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. – А потом уж мы туда – козу, в последнюю очередь!
– Дошло! – орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут – крепко устали, нервные. – Это тебе не высоту брать.
– Сравнил телятину с… – обиделся Курносый.
Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее… И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это – не им одним нажито, такими были его отец, дед… Это – вековое.
Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я – за ним. Посидеть с ним, помолчать.
Боря
В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:
– Пивет, пивет!
Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает – весело. Он вообще добрый.
– Пивет, Боря, пивет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?
Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:
– Матерю с отцом разогнал наш Боря.
– Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?
Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой:
– Босе не бу, не бу, не бу!.. – Больше не будет.
– За што он их?
– Розу не купили! Стал просить матерю – купи ему розу, и все.
– Босе не бу, не бу!
– Ложись теперь и лежи. «Не бу!»
– А мама пидет? – пугается Боря, когда няня уходит.
– Мама пидет, пидет, – успокаивают его больные. – Сам разогнал, а теперь – мама.
В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он – умница. И еще: дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не философствовать в конце – это всегда плохо, – скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей. (Сказать все-таки охота.) Я думал: «Что же жизнь – комедия или трагедия?» Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда: комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы – от Наполеона до Бори – неуклюжие, тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это тоже – от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать – да. Только ведь уважение – это дело наживное, приходит с культурой. Жалость – это выше нас, мудрее наших библиотек… Мать – самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное – вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но неизменно, всю жизнь – жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать, уважение… Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю – и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т. п. Но еще – в огромной мере – жалко.