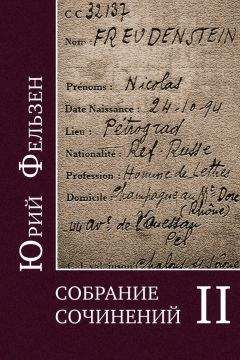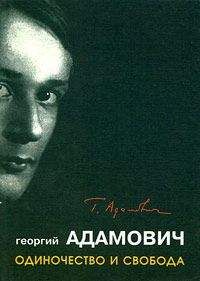Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Оказывается, вы далеко от меня ушли, бесконечно дальше, чем я предполагал, и нужна была эта глупая карточная игра, обернувшаяся нечаянной обратно-любовной игрой, чтобы я понял свое бессилие и проникся вашим уходом: изнемогая от длительного напряжения, я забыл о своей, себе назначенной душевной холодности, я втянулся в печальную и для меня убийственную любовную борьбу и теперь понемногу припоминал и осмысливал недавние о ней лицемерно-утешительные догадки. В любви – обыкновенно вначале, порой же и после разделенности – бывает полоса неизвестности и сомнений, когда лучший совет (мною однажды вычитанный во французской книге и, пожалуй, непереводимый): «II faut se faire desirer». Я столько раз на других убеждался в его правильности, столько раз хотел с досадой его подсказать, однако сам ему не следовал и не умею следовать: с ним чувства и отношения умаляются до какой-то игрушечной призрачности, становятся рассчитанными, плоскими, бесполетными, такими, ради которых не стоит хитрить. Правда, не применяя хитрости, мы постепенно лишаемся тех, кого любим, и отчаянье от потери переносится болезненнее, чем соблюдение законов игры, но у меня есть предел благоразумия и упорства, предел в степени подчиненности самым неопровержимым головным доводам, и нередко я заведомо себе действую во вред. Напротив, во мне ничто не вызывает такого раздражения, как эта животно-человеческая наша слабость – быть жестокими, потому что с нами безукоризненны, – и мне приятно себя уговаривать, будто сам я устроен иначе и оттого поступаю благороднее и прямолинейнее других. Но подобная моя исключительность является только односторонне верной: я не хочу, не пытаюсь, не умею играть, однако там, где играют со мной, я так же, как все, беспомощно проигрываю и мучаюсь – и если не для себя, то для «всех» я поневоле многому научился. Для того, чтобы хоть частично управлять отношениями – а без попытки ими управлять они слишком уж ненадежны и несправедливы (всякие отношения – любовные, дружественные, воспитательские, начальнические), – необходимо прежде всего помнить об этом неизбежном противоречии: чем менее нам что-нибудь нужно, тем охотнее нам ненужное предоставляют, и чем более мы внимательны, тем меньше нас любят (вследствие чего помогающий всегда благосклонен, а тот, кому помогают, всегда оскорблен). Мне кажется, что на высшей ступени любви, на высшей ступени благожелательности и дружбы бывает по-иному, милее и бескорыстнее – и если я неправ, то все-таки вынужден считать себя правым. Итак, надо помнить о неизбежном противоречии и о некоторых в нем, достаточно редких изъятиях, но не надо злоупотреблять чересчур поспешными выводами: ведя отношения так, словно ими играешь, нельзя обнаруживать свою игру и, например, возбуждать ревность, беспокойство, досаду намеками на измену, предполагаемой и выдуманной посторонней заинтересованностью – нет, заинтересованность или измена должны стать на самом деле для нас привлекательными, и нам остается найти способ их вовремя преувеличить и подчеркнуть. Без этого умения взбунтоваться и отвлечься, без упорных стараний подобным своим умением воспользоваться, мы невольно отдаемся судьбе, неизменно безжалостной, и воле победителя, лишь изредка великодушной, и никакая слишком поздняя искусственность – мгновенно и бессознательно угадываемая – нас не спасет и, пожалуй, еще безнадежнее нас запутает. С такими суровыми, бесповоротно-неутешительными мыслями, я медленно возвращался к себе домой по чужим, безразличным парижским улицам, боясь одинокой своей постели, всё еще непривычной бессонной ночи, нетерпеливого, бездельнического утра, и каждое мое опасение, в ухудшенном виде, неумолимо сбылось: я восставал против нанесенного мне удара, против своей беззащитности и вашей слепоты, и лишь пытался смягчить столь естественную, столь обидную к вам ненависть, убеждая себя, что, быть может, и вы с сожалением подчиняетесь общим законам, для всех обязательным и для меня сейчас невыгодным.
В самые тяжелые утренние часы явился ко мне Бобка, приятно улыбающийся, и сообщил, что Зинка приехала из санатории и просит вас и меня вечером непременно прийти. Я и раньше слыхал о чудесном ее выздоровлении и тогда же подумал, что люди больше, чем это кажется, цепляются за жизнь и что порою нас, по-странному разочарованных, удивляет несбывшаяся сенсация чьей-либо долго ожидаемой и словно бы нам обещанной смерти. Но сейчас мне уже не хотелось ни удивляться, ни рассуждать: я помнил о нелепом своем «романе», о жалобах Зинки, о справедливых ее требованиях, не однажды мне предъявлявшихся, о невыполненных мной обязательствах, и со страхом маниака себе представлял, что Зинка меня отвлечет от единственной моей мании, от вас, что я поддамся ее упрекам и своему раскаянию и буду, хотя бы изредка, ею занят, смогу потерять частицу времени, правда, не всегда вам посвящаемого, но всегда имеющегося в моем распоряжении – для сумасшедших проверок, для различных капризных выходок, для поисков мимолетной замены и для грустных, уединенных о вас мыслей. Под влиянием такого, действительно себялюбивого страха я рассказал вам о Зинкином приезде и приглашении, как о чем-то невыразимо скучном, и вы сразу на меня накинулись, сразу меня пристыдили за непонятное мое бессердечие, и я поневоле с этим сравнил другие, прежние наши о Зинке разговоры, возмущенное ваше сочувствие, что Зинка посмела какие-то права предъявлять, что меня считает виновником своей болезни, что и сам я, быть может, мучаюсь из-за своей воображаемой перед нею вины: и тогда и теперь вы ко мне одинаково пристрастны и лишь теперь бессознательно преувеличиваете в плохую, а не в хорошую сторону. Вы заявили, что я к Вильчевским должен пойти, и на естественное мое предложение отправиться к ним вместе вы недоумевающе пожали плечами («при чем я здесь, объясните, не понимаю») и со свойственной вам беззастенчивой ловкостью, которой я раньше не замечал, устроили себе законно-свободный вечер, разумеется, предназначенный для Шуры. Чуть ли не впервые я стал подозревать, будто вам необходимо от меня избавиться – и у вас, и потом у Вильчевских непрерывно меня пугала и мучила какая-то ясновидящая ревность, какое-то понимание всей решающей значительности этого вечера и бесповоротного моего поражения. Меня нисколько не утешило, что перед самым моим уходом к вам постучался Марк Осипович и что он мог бы помешать вам с Шурой остаться вдвоем: я заранее был уверен, что вы, как обычно, задуманного добьетесь (точнее, не задуманного, а какого-то равносильного этому риска, вами лицемерно перед собой скрываемого), и только хотел одного – отмахнуться, куда угодно бежать от невыносимой своей уверенности. Пожалуй, мне редко приходилось кого-нибудь так понятливо-близко жалеть, как Марк-Осиповича, несчастливо ввязавшегося в чужую опасную борьбу: ему еще предстояло беспомощно присутствовать при ее развязке, как будто на него была переложена вся случайно избегнутая мною тяжесть. Правда, и меня дурные подозрения и дурная уверенность не менее оскорбительно задевали, чем могла задевать Марк-Осиповича несомненная страшная очевидность, но при всей беспомощности, в таком положении неизбежной, он должен был что-то предпринять, а я против воли «выпадал из игры» – и с железной последовательностью, вытекавшей из множества пустяков, бессмысленно отправлялся к Вильчевским.
Недалеко от их дома меня нагнал «эрудит» Л., у них считавшийся «украшением салона», и, не зная, что и я к ним приглашен (после долгого, почти годового перерыва), радостно меня окликнул: «Куда идете, никак возвращаетесь к пенатам своим». Не дав мне ответить, он начал говорить о политике и сделал неожиданное открытие – что «над Германией нависла дамокловым мечем огромная армия безработных»: на меня сразу – и это я воспринял не без горечи (от напрашивающихся сопоставлений прошедшего и настоящего) – уютно повеяло особым воздухом «салона» Вильчевских, общими фразами, спорами, флиртами, каким-то самодовольным и наивным добродушием. За эти месяцы у них произошла еле уловимая, но ощутительная перемена, столь частая у русских парижан – в сторону самоиронии и трезвости: папа-Вильчевский (теперь причесанный, выбритый и притихший) уже не врывался внезапно, с ошеломляющими заявлениями, с необоснованным деловым хвастовством, Зинка немного пополнела, стала красить щеки, подмазывать глаза и казалась женственнее и соблазнительнее. Ко мне отнеслась она свысока (чему я искренно обрадовался, вопреки мужскому своему тщеславию – значит, кончились обязанности и права) и не забыла обменяться с эрудитом Л. обычными шутливыми приветствиями:
– Ну, как поживаете?
– Вашими молитвами.
– Тогда плохо, я нерелигиозна.
Зинка явно также повзрослела, старалась быть медлительной и важной и каждую фразу начинала со слов – «я должна сказать» или «я скажу вам правду», – точно говорить она действительно вынуждена и точно другие говорят неправду. Л. вскоре оказался «центром внимания» и продолжал рассуждать о несчастном германском народе и о дамокловом мече, который над ним висит. Ида Ивановна по-прежнему скромно и с легким оттенком развратности сидела в своем углу, хотя внешне она представлялась менее скромной и, как все, невольно опарижанившейся: и она преувеличенно красилась и мазалась, почему-то носила вокруг шеи, в несколько рядов, крупные фальшивые жемчуга, а на левой руке у нее появилось широкое квадратное сапфировое кольцо (разумеется, тоже фальшивое), по-смешному укорачивавшее пальцы, делая их странно-непохожими на пальцы правой руки – более утонченные, изящные и длинные. Дружила она с Бобкой, что, естественно, меня навело на печальное и, конечно, сомнительное обобщение: сперва вы и Бобка, Ида Ивановна и я, потом всё наоборот, и, следовательно, в одном и том же тесном кругу неизбежно чередуются все сочетания, какие возможны и даже невероятны, и не в этом ли единственная причина моей с вами будто бы особенной, будто бы нам предназначенной счастливой близости, и вот опять оправдывается новое ваше «сочетание» – с Шурой. Впрочем, несмотря на явный «роман» с Бобкой, Ида Ивановна была готова меня с собою позвать, и мне бы следовало немедленно согласиться – за многое Бобке отомстить и в сегодняшней несомненной вашей измене полутщеславно с вами сравняться, – но я знал, что так не поступлю, и притворился не понимающим заигрыванья, сочувствующим новому роману и лишь по-товарищески (en bons copains) любезным и дружественным. Я себя уговаривал, что вам буду – наперекор всему – неизменно верен и умышленно-горестно противопоставлял свое поведение и ваше, на самом же деле я смутно хотел сохранить свободу на вторую половину ночи – для того ли, чтобы себя успокоить, или чтобы где-нибудь попытаться вас разыскать, – и неравенство наших отношений заключалось только в одном: вы, беспечная и со мной отчужденно-холодная, не стесняясь, добивались своей цели, мне же при вас ничего не было нужно – кроме вас и любовной вашей ответности. И вот, размышляя, мучаясь, негодуя, я все-таки решил себя перебороть, быть выдержанным, светским, веселым и легким – правда, и в хорошие минуты мне это обычно не удается, и я не могу приспособиться к посторонней, малознакомой среде: мы нередко, особенно в молодости, скрываем свою неизобретательность в смущающем нас обществе под маской молчаливого к нему презрения или же показной разочарованности и мрачности, и эта удобная поза впоследствии надолго (иногда до конца жизни) к нам пристает. Мне кажется, иных попросту подавляют навязчиво-громкие люди, являющиеся признанными собеседниками и остроумцами (вроде милейшего эрудита Л.), и смех, ими вызываемый, меня, например, опустошает до предельной тупости, как смех от нелепых положений какой-нибудь адюльтерной комедии. Но теперь, у Вильчевских, отвратительная ревнивая моя боль оказывалась неизмеримо сильнее, чем такая, вошедшая в привычку неловкость и чем стремление ее побороть, и бесчисленные косвенные поводы беспощадно увеличивали мою боль. Так едва ли не все гости подряд, с неизбежными в подобных случаях завистливыми или поощряющими словечками, с противными улыбочками и намеками, расспрашивали меня о том, с кем вы, где вы, почему я рискую оставлять вас одну (что всегда «легкомысленно и опасно»), хотя у меня, вероятно, имеются достаточные «данные» для такой самоуверенности, – и несоответствие этой зависти и этих намеков с моей заведомой бесповоротной не счастливо стью мной воспринималось как особое издевательство: я, должно быть, не очень самолюбивый человек – по крайней мере, мне безразлично, что думают другие о моем успехе, и чужая необоснованная жалость иногда меня радует и забавляет, зато приписанная ложно удача своей ошибочностью неизменно меня злит, а в самом главном как-то поддразнивающе мучает. И вот я понял, что мне надо от Вильчевских уйти, надо скорее вас отыскать и себя убедить в вашей действительной верности и любви (для всех кругом столь непостижимо-ясной) или же – чудом – добиться независимости, не нуждающейся в этой любви.