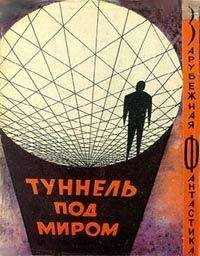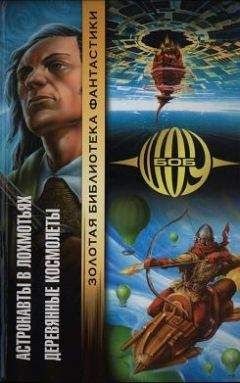Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
— Не знаю… не знаю, почему так происходит, — Юзукас подпер коленями подбородок и подался вперед. — Я не подумал… как другие дети, так и я… — и оцепенел, услышав, с каким презрением Скарулис произнес:
— Потому что ты мерзавец! Все вы мерзавцы! Понимаешь? Все, все! — воскликнул он, встав. — Панавиокас тебе друг, Акуотис тебе друг, всё хулиганье — твои друзья. Ну, ничего, Львов тебе еще покажет, где раки зимуют.
Юзукас вскочил, собрался было наброситься на Кястаса с кулаками, но глянул на закопченный солдатский котелок, в котором плавали полуживые рыбки, на траву, на которой лежал расползшийся от ливня бутерброд, и передумал. К тому же Скарулис схватил удочку и шмыгнул в крапиву. Под ногами лежал камень, валялись здесь и палки, в другого он бы запустил ими, но в Скарулиса — нет. Со Скарулисом, этим худощавым, белоголовым мальчуганом, глаза которого светились простодушием и чистотой, он не мог быть недобрым…
Пришел Юзукас домой с опущенной головой, решив завтра же все выяснить, но не успел: на другой день, не стерпев вечных оскорблений Львова, он подрался с ним. Они тузили друг друга на пустыре возле школы, пока не пролилась кровь. Ничего не видя перед собой, вставая и снова падая, он набрасывался и набрасывался на этого задиру, пока тот, спасовав, не дал стрекача.
— Браво! Вот это мужчина! — подбежал к Юзукасу Панавиокас, вместе с другими детьми наблюдавший за дракой. Но Юзукас первым делом встретился со взглядом Скарулёкаса, он долго и пристально глядел исподлобья на Кястаса, прикидывая, не наброситься ли на того, но в яркой голубизне глаз этого ребенка не нашел никакого ответа.
Спустя некоторое время Скарулёкас с матерью куда-то переехали…
Хилые пацаны военных лет, полчищами следующие по пятам за взрослыми, подражающие им, держащие руки в карманах широких сползающих штанов, плюющиеся семечками, пронзительно свистящие в два пальца, оглядывающиеся по сторонам, кого бы тут задеть, — шатались по кривым улочкам, околачивались у заборов, крали опущенные в воду бидончики с молоком, яблоки, опустошали огороды; воришки, сорви-головы, драчуны, они выныривали из почерневших от времени изб и трущобы, прозванной Вдовьей слободкой, где все заросло крапивой и одичавшими кустарниками. Там жили их матери, таскавшие за рога блеющих коз, их бабушки, сидевшие на солнцепеке на камнях и завалинах. Самодельными острогами они поддевали рыбешек, стреляли из рогаток в воробьев, мастерили пугачи, прыгали с мельничной плотины, смотрели, собравшись в стайку, как разбежавшийся по раскаленной от солнца жести Бярженас, несколько раз кувыркнувшись в воздухе, прыгает с торчащих свай. Они швырялись камнями, устраивали безжалостные кулачные бои, не щадя порой даже своих матерей и бабушек. Шустрые, неугомонные. Таким был Панавиокас с продолговатой головой, с обвисшими ушами, вечно готовый куда-то удрать, провонявший махоркой; а глаза невинные — даже не переставая врать и красть, он смотрел на человека прямо. Утащив из-под носа у продавщицы пустую бутылку, Панавиокас тут же ее кому-нибудь сбывал и, насвистывая, скорчив невинную мину, ссыпал в карман копейки, а потом принимался снова выслеживать добычу. Панавиокас всегда приводил с собой какого-нибудь мальца, чтобы тот видел, как он «работает». «Ты чего здесь ошиваешься?» — спрашивала у него продавщица. «Нравится», — бывало, отвечает он и глядит ей прямо в глаза.
Позднее жуткой смертью умер его отец: сгорел от вспыхнувшего в желудке спирта. Люди нашли его в чертополохе у кузницы. Из почерневшего рта клубился синий дымок. Сиргедене еще пыталась его спасти, но куда там…
Природа одарила этого паренька удивительным музыкальным слухом, ласковостью, ловкими руками фокусника. Тому, кто слышал, как он поет, тому, с кем он ласково и сердечно заговаривал, никогда и в голову не приходило усомниться в его честности. В него беспрекословно верила молоденькая учительница, которой он постоянно мозолил глаза, словно хотел, чтобы та обыскала его карманы, из которых всегда вываливались смятые рубли, спички, зажигалки, окурки. «Откуда это у тебя?» — спрашивала она, смущенная его невинным взглядом.
Зимняя стужа загоняла их в избы, вёсны выманивали их на солнцепек и склоны. Когда теплый ветер высушивал откосы, когда солнце накаляло камни и кирпичи, а вода в реке немного спадала, они просто сходили с ума — босиком взапуски бежали по снежным заплатам, лазали по деревьям, и собаки и кошки, испуганно лая и мяукая, шарахались от них в сторону.
Сын Акуотиса — конопатый, приземистый, плечистый, нетерпеливый, пронырливый, чем-то похожий на своего лучшего друга Панавиокаса, только грубей и вспыльчивей его, — иногда приводил Юзукаса к себе домой, показывал приобретенные им вещи: марки, рубли, литы, испорченные часики. Юзукас продал Акуотелису книги, которые оставил ему Амбразеюс и не смог выманить у него Визгирдёнок. Хватая Юзукаса за рукав, Акуотелис принимался рассказывать ему о Робин Гуде. Голова его всегда была полна каких-то странных затей. Как-то весной, когда на солнцепеке задорно чирикали воробьи, Акуотелис уговорил Юзукаса бежать из дому: устроимся, мол, в лесу, соорудим себе жилище или нет, лучше будем путешествовать в товарняках, на чем попало. «Чего ты боишься? Чего? Поехали! Поехали!» — кричал он.
Подружившись с городскими ребятами, Юзукас сразу смекнул, что они другие. Кроме них, в школу еще приходили дети из Дусмянос, Сантакос…
Притягивали сюда и сады, ломящиеся от плодов, огороженные высокими заборами; свисающие гроздья смородины, крыжовник… Были дворы, куда они боялись и ногой ступить, — Юзукаса манил зеленый просторный дом доктора, не меньше привлекал его и другой, стоявший по ту сторону улицы, напротив развалюхи Акуотисов: желтый, утопавший в цветах, с широкой стеклянной верандой, на которой Юзукас видел одетую во все черное монахиню; она сиживала с книгой, на черном переплете которой Юзукас однажды заметил золотисто-желтый крест. Полыхали пионы, жужжали пчелы, все увядало и чахло от зноя, где-то совсем близко бабы, подоткнув подолы, били вальками белье, кормила грудью своего младенца Акуотене, все вокруг шумело, спешило, задыхалось от зноя, только эта женщина, одетая во все черное, сидела в прохладной тени на веранде, и Юзукас с какой-то непонятной остротой чувствовал и покой, царивший там, и отрешенность, и ничем не стесненный простор. В каждом дворе, за каждым порогом — другие миры, другие предметы, другой воздух. Везде, куда только он впервые входил, что-нибудь да ошеломляло его, приводило в изумление: то стенные ходики, то ларец для приданого, то прохлада в горнице, то стол, лавка и занавески, то стоящий посреди комнаты цветок — словом то, чего не было в его собственном доме.
…В тот год Юзукасу позарез нужны были длинные штаны с кармашками и ремень с широкой пряжкой; к пиджачку он пришил солдатские пуговицы и погоны. Раскаленным добела гвоздем он выжигал в древесине дырки, мастерил пистолеты, красил их всякими красками, палил из пугачей по воробьям, по доскам, по учебникам; в тот год Визгирдёнок ему чуть не выбил глаз — Юзукас не давал себя в обиду, ни одна их драка не кончалась вничью, его сила озадачивала даже более старших ребят, задевавших его. В тот год в самую жару, в самое пекло его крольчиха принесла одиннадцать крольчат, которые один за другим подохли, и он забирался в пропахшую омерзительной вонью клетку, вытаскивал их за мягкую шелковистую шерстку, едва превозмогая тошноту, засеял все задворки многолетним люпином, посадил деревца: рябину, кленочки, яблони; сконструировал ветряную мельницу с будкой, дверцами, жерновами; оборудовал убежище, притащил в него уйму каких-то железяк, старые деньги, книги, динамик, и искорки тока обжигали его пальцы.
Вместе с другими мальчишками он разорял осиные гнезда (однажды он вернулся весь в укусах), тыкал палкой в барсучьи норы, дразнил собак; их влекло все, что внушало страх, что надо было преодолевать, чтобы после можно было гордиться: босиком бродили по гадючьим гнездам, взбирались на верхушки самых высоких деревьев, и некоторые из мальцов даже испытывали удовольствие, когда родители, сняв ремни, гонялись за ними. Они были из породы загоревших на солнце скитальцев, большинство которых уже не ходило в школу и только ждало, когда сможет уехать. Один за другим они оставляли Ужпялькяй и разлетались кто куда.
ПРОБУЖДЕНИЕ
Настал август — сухой, безоблачный. Поднимая тучи пыли, над волостью свирепствует ветер. В обмелевшей реке ловят рыбу местечковые пацаны. На обочинах трепыхаются просвечивающие деревца, блестит над лужайками паутина, со стуком падают на землю спелые яблоки. Одноногий Барткус стоит на асфальтированной площади местечка и поглядывает во все стороны — сколько скособочившихся домов снесено, на их месте строят новые, однако магазин хозяйственных товаров, почта и это двухэтажное громоздкое здание с выходящей на улицу лестничной платформой, под которой копошатся куры и снуют кролики, все еще стоят. Но окна чисто вымыты, кое-где и цветы видны. Конечно, еще уйма всякого хлама в подвалах старых домов и на чердаках. Недавно сделали капитальный ремонт и в апилинковом совете — может, потому Барткусу теперь всюду мнится запах известки, лака и свежей древесины. На днях в подвале апилинкового совета нашли несколько антикварных вещей: ворох старых молитвенников, спрятанные в медном сундучке не то письма, не то записки, заржавевший меч и кандалы, пару стершихся монет. Еще неизвестно, куда эти вещи денут. Они бы очень подошли его музейчику. В его музейчике есть и кусок свинца, раздробившего ему коленную кость, и одежда погибших активистов, и напечатанные в лесном бункере прокламации, и листовки с угрозами. Теперь в лесах тихо — зреют орехи, желтеют листья, уйма грибов.