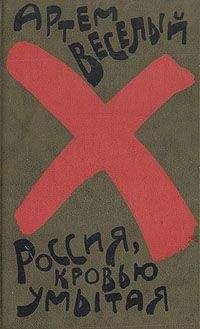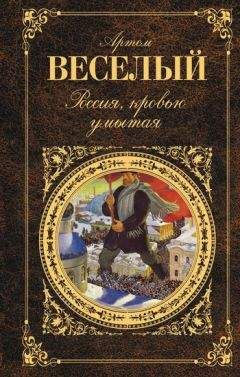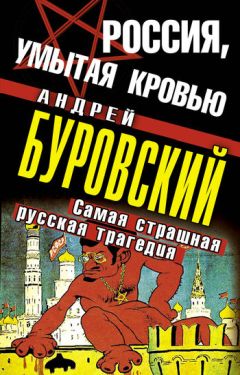Артем Веселый - Россия, кровью умытая
Руководитель работ по восстановлению моста, инженер Кипарисов, в деловом разговоре по какому-то поводу назвал продкомиссара генералом. Лосев инженера — скотом. Тот, не желая остаться в долгу, обложил его по-русски. Тогда юный продкомиссар порвал ордера на снабжение рабочих, вытолкал собеседника из кабинета и будто крикнул: «Хам». Инженер настрочил письмо в редакцию, подал заявление в чека, пожаловался своему военному начальству и к концу рабочего дня бледный от негодования прибежал в исполком…
— Поймите, какая наглость… Я со студенческих годов болел интересами народа… Он оскорбил во мне все лучшее, все святое…
Капустин пообещал достать ордера на продукты и сейчас же, в присутствии инженера, позвонил Лосеву:
— Послушай, что там у вас вышло с товарищем Кипарисовым? Нельзя же так…
— Он не товарищ, а беспартийная тварь, — прокричал тот, — такую сволочь давно бы следовало к стенке поставить… Он…
Капустин повесил на крючок трубку:
— Видите ли, инженер, Лосев извиняется и сожалеет о происшедшем… Он у нас заработался, нервничает, ну и… стоит ли вам на мальчишку внимание обращать?.. Поезжайте-ка, кончайте работу, а продукты завтра утром пришлю…
Помимо подобных конфликтов жалили мелкие недоразумения с проходящими воинскими частями, с железнодорожным начальством, с заградительными отрядами, реквизициями, арестами и проч.
Недохваток людей, скудость агитации и невязь с местами чуть не подломили уездный съезд советов и комбедов. Наехали и бедняки, и кулачки, и кулачишки, и капитал-кулаки всех сортов и мастей. Программа — обух: «Долой контрибуцию, долой разверстку, дай соли, дай гвоздей». Съезд — рычаг, от которого зависел успех продкампании, всяческих заготовок, мобилизаций. Комитет партии послал к делегатам двух агитаторов. Делегатское общежитие в казармах: железные печки, угарный дым, сушились портянки.
— Здравствуйте, товарищи, — в один голос сказали двое присланных.
Дружное молчание.
— Как живете?
Нехотя, через силу:
— Живем, декреты жуем… Двое дён животы дрогнут… Пустое дело — кипяток, и того нет, не сготовили, не додумались… Эх, власть, эх, управители…
— Дорогие товарищи…
— Пустое дело кипяток, плюнуть раз… И трактиры опять же разорили… Захлебнуться нечем.
— Дорогие товарищи…
— Дорогие… У нас мозоли на руках, а у вас на языках…
Угарная махра, угарные разговоры до самого дня открытия. Разговоры разговорами, а чайком так и не распарились мужичьи кишки, так и дрогла в холодной казарме сотня ржаных персон, глотая дым и казенный суп жиже дыму. Лошадям делегатским и тем почету не было — десяток под навесом, а остальные гнулись на юру, склонив унылые морды над гнилым военкоматским сеном. Организовать все это как-то никому и в голову не приходило, а Капустин был в отъезде. Растерявшийся Сапунков побежал на телеграф.
«Срочная шифрованная губком копия губисполком. Клюквинский уезд один из богатейших. Условиях кулаческого окружения работа чрезвычайно трудна. Налог местами сорван или проходит вяло. Наложено двадцать пять миллионов собрано пока три. Завтра открывается уездный съезд настроение ненадежное есть опасения срыва. Немедленно высылайте ответственного товарища для проведения съезда».
Ответ:
«Вся ответственность проведения съезда возлагается на учком и президиум исполкома. Случае срыва единовременного чрезвычайного налога или продкампании будете отозваны преданы суду. Через неделю пришлем на постоянную работу Павла Гребенщикова».
Съезд открылся многоречивым докладом Сапункова о международном положении. Половина делегатов — в коридорах. В сортире — фракция кулаков.
— Свет в окошки… Га… Ровно у нас неисчерпаемый родник.
— Только и выглядывают, кто слабо подпоясан… Упрись, православные.
— Выходит, дело борона…
Выручил вернувшийся из Москвы Капустин. Угодил в самый кон. Словом о слово ударял, огонь высекал: умел он о самом заковыристом сказать просто и убедительно.
Зал притих, засопел с присвистом, слушая простые и страшные слова о голодающих городах и разоренных войною целых областях, о красном фронте и задачах советской власти.
Саботаж был сломлен, кого надо уговорили, кого надо заставили, но постановления протащили целиком. В новый исполком были выбраны пятнадцать коммунистов и трое сочувствующих.
Без четверти восемь. Последние пятнадцать минут Гильда лежала с распахнутыми глазами, вспоминала о делах вчерашних и сегодняшних. Обуревали сомнения насчет методов преподавания политнаук, насчет целесообразности пичканья рядовых партийцев отвлеченными теориями, когда они не умели провести собрания или не могли толком объяснить, почему введена хлебная монополия.
Часовая стрелка срезала цифру 8. Гильда выпрыгнула из теплого гнезда постели и, шлепая по крашеному полу босыми ногами, побежала к умывальнику. Сквозь захватанное лапой мороза окно просекались острые глаза январского солнца. Гильда, ровно утка, полоскалась в тазу и косила резвую, как лунная вода, улыбку на Ефима:
— Довольно дрыхать, вставай.
— Не хочу, — буркнул сердито.
— Что с тобой?
— Ты опять сейчас за свои конспекты засядешь?
— У меня вечером доклад.
— Когда они кончатся?
— Кто?
— Доклады?
— Дурак… Господи, и почему ты такой… глупый?
— Доклады, собранья… В сущности, чужим людям ты даришь все время, мне же…
— Как чужим?
— Не суть важна… Приходишь домой усталая и валишься спать… Мне же, ровно нищему, бросаешь лохмотья минут… В моей душе рвутся бастионы любви, остывающий пепел летит на наши головы…
— Перестань комедиантничать… Если бы ты видел мой слободский кружок! Рабочих! С какой жадностью они тянутся к знанию! Ведь это для них все ново! Работа с ними для меня праздник! Если бы ты мог понять… ты не стал бы бить меня палкой по ногам. — Стремительно сдернула с него простыню и плеснула ледяной водой. — Вставай!
Запыхтел гневно и с головой завернулся в одеяло.
Гильда быстро оделась, завела примус и — за стол… Но строчки летели и гасли, как капли дождя на песке, мысль рикошетила в Ефима… Первые дни и ночи, первые сладостные стоны… Летели сны светлые и легкие, как осенняя вода… Ефим был ласков и нежен, мчалась пылающая карусель его восторгов. А она? В ней сердце кричало петухом… Бегала, земли под собой не чуяла. Но — дерево осыпает осеннее перо, скоро осыпались и расписные деньки… От слез у любви линяют глаза, перестают различать краски и подбирать цвета… Ефим стал раздражителен и груб… Отчего? Неужели и у них все идет так, как всегда и у всех?.. Как пишут в глупых романах?.. Ефимчик, он был такой хороший… Захотелось подбежать, растормошить, зацеловать… Жарко покраснела, решительно распахнула книгу и потемневшими глазами начала рубить строчки, будто молодая лошадь хрупкий овес.
…Ефим, напевая: «В трагедиях героев ждет могила, в комедиях их цепи брака ждут», неторопливо шел улицей, радовался морозу, снегу, блеску дня. Ветром намытые сугробы сверкали под солнцем. Сытые сизари ворковали под крышами. «Самое время по озерам бы пошляться, блёсен нет и купить негде. Схожу-ка в слободку к Тимошке Ананьеву, пропалой рыбак, должны у него блёсны быть…»
На каланче старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы.
На углу широкое грязное окно продовольственной лавки было сплошь уклеено объявлениями, словно сентябрь багряным и седым листом. Хвост очереди загибался в переулок, бабы ругались:
— Ирод бумажек-то сколько налепил… Подумаешь, невесть что…
— Нда, бумажек много, а получать нечего. Насчет селедок-то будто старая записка болтается?
— Свободна вещь. Может, и мерзнем зря?
Заведующий лавкой, стекольщик Кашин, старые объявления не срывал, а новые все подклеивал, а бабы плутали в них. Более смекалистые ребятишки могли безошибочно сказать, какой записке неделя, какой — две.
— Фефелы, примечай, побелели чернила, значит старая… Нечего тут и стоять, носами шмыгать…
Ефим почитал безграмотные каракули, залепившие окно, порадовался на игравшего с собакой мальчишку: пестрая дворняжка с разбегу стремительно опрокидывала мальчишку в сугроб, рвала на нем лохмотья, кружилась над ним, как ошалелая, потом отбегала, наслаждаясь созерцанием своей победы, зарывалась мордой в снег и, отфыркиваясь, заливалась собачьим смехом.
Около исполкома — сборище.
Преподаватель пластических танцев мосье Леон и племянница заводчика Лидочка Шерстнева работали в счет трудповинности. Француз по шинели подпоясан веревкой, на ногах вместо лаковых башмаков опорки; от прежней роскоши у него остались одни пышные усы, даже в такой неподходящей обстановке сохранившие довольно привлекательный вид. Торопливо взмахивая пешней, скалывал лед с тротуара. Лидочка, обнимая метлу рукавами — замерзли ручки, — гнала ледяные крошки на дорогу. Не по росту длинное, с чужого плеча пальто путало ее шаг. Работающих широким полукругом обступали деревенские мужики, похожие друг на друга, как пеньки. Подходили все новые и новые — в тулупах, с кнутами — подводчики.