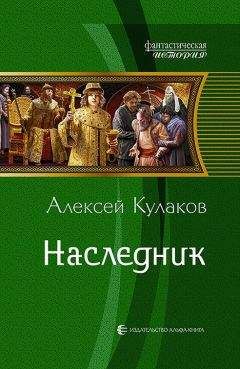Юрий Яновский - Кровь людская – не водица (сборник)
— Простите, что пришлось вас потревожить. — Начальник подал незнакомцу желтоватую узкую руку. — Спасибо за помощь.
— Кушайте на здоровье, — засмеялся тот и, с облегчением вздохнув, направился к двери.
В это время зазвонил телефон, начальник поморщился, подошел к громоздкой коробке, снял трубку.
— Товарищ Нечуйвитер? — спросил он, просветлев. — Добрый вечер, Григорий Петрович…
Эти слова как гром оглушили Данила. Там, на воле, под солнцем и звездами, находится его давний знакомый, у которого он когда-то отбил девушку. Галина и до сей поры повязывается его шелковым платком, не зная, жив или нет человек, впервые взбудораживший девичье сердце.
Данило силится понять, сходит ли он с ума или разговор и в самом деле идет о нем.
— Что я думаю о вашем подсудимом? То же, что и вы. Пал духом… «Человек есмь», — как писал Грабовский.
На пораженный мозг Данила одна за одной глыбами валятся страшные догадки. А может, это галлюцинация? Может, ему почудилось? Нет, это по ту сторону мира решается его судьба, решается подло, не лицом к лицу, а с помощью черного шнурка телефона… Значит, он, Данило, подсудимый Нечуйвитра и тот судит его, жену и ребенка за украденную любовь. А на какое преступление не пойдет человек ради любви?.. Ею наполнены все мировые трагедии. Но, может быть, это лишь измышление больного мозга, измученного утратой всех надежд? Откуда здесь может взяться Нечуйвитер? А если это и он, как он узнал про Данила?
Слепой вихрь мыслей кружил у него в голове.
Пирогов между тем повесил трубку, поправил на плечах полушубок, а Данило в лихорадке бросился к нему:
— Гражданин начальник, скажите, вы обо мне говорили с Нечуйвитром?
— О вас. Догадались. Что вы! Успокойтесь… — удивился тот.
— Моя жизнь… от Нечуйвитра?..
— Да… В известной мере.
— Тогда я… — Он хотел обрушиться на Нечуйвитра, но сдержался: для чего? Ведь это не поможет ему вырваться из тисков холодной камеры. Он провел рукой по глазам и по надбровью, тяжело вздохнул и увял.
— А вы знаете товарища Нечуйвитра?
— Знаю, да лучше бы не знать.
— Почему? — удивился Пирогов.
— Почему? — взорвался Данило. — А потому, что, выходит, двоим нам тесно на земле. Когда-то я причинил Нечуйвитру большое горе… Я… это же в молодости было… отбил у него девушку… Она моя жена, мать моего единственного ребенка. Я знаю, Нечуйвитер не мог этого забыть. Он наказывает меня… Я бы, верно, сделал то же на его месте. Не верьте ему, если можно… — Данило, обессилев, сел, обхватил голову руками.
А начальник все еще сидит молча, удивленный.
— Приключение, как в плохом романе. — Он встает, полушубок падает на пол, но Пирогов даже не нагибается поднять его.
— Вот именно — как в плохом романе, — пытаясь подняться, бормочет Данило. С него, как изодранная одежда, начинает слетать гордость, достоинство, и в голосе звучат нотки мольбы: — Если можете, не слушайте Нечуйвитра… Он озлоблен любовной неудачей…
Лицо начальника вдруг становится жестким, восковые уши розовеют.
— Замолчите наконец!
«Ага, все же заговорил своим голосом!» — тупо отмечает Пидипригора.
— Тупые и злобные люди вбили вам в голову, что коммунисты ни о чем, кроме красного террора, не думают. Вы здесь оплевали своего знакомого, меряете его на свой аршин. А знаете, что вы только благодаря Нечуйвитру выходите из тюрьмы раньше, чем можно было ожидать? Это доходит до вас? — Он постучал пальцем по лбу. — Товарищ Нечуйвитер заинтересовался несколькими делами и в особенности вашим. А вы о паршивенькой ревности… Стыдитесь, если стыд еще не растеряли! Нечуйвитер — коммунист, для него человек и дело выше собственного чувства.
Данило посмотрел на Пирогова полубезумными глазами и молча заплакал. Стукаясь головой о стены узкого коридора, он почти бегом добрался до своей камеры, на радостях расцеловал довольно противную, птичью рожу Геруса и так запел «Где ты бродишь, моя доля», что в глазке раздался голос часового. Однако и часовой только развеселил арестованного.
А ночью Данила мучил тяжелый сон, приснилось, что Нечуйвитер передумал и решил засудить его. Данило снова плакал, но Герус больше не будил его.
— Пусть помучается хоть во сне перед волей! — завистливо бормотал картежник, глядя на разметавшегося на койке Данила, на его свежие, припухшие губы, которым завтра предстоит целовать жену и сына.
Утром Данило вышел за ворота тюрьмы и сразу же отправился в губком, к Нечуйвитру. Но того на месте не оказалось — выехал на банду.
— Когда же я смогу его увидеть?
Молоденькая, стриженная под мальчика девушка подняла глаза на опечаленного посетителя, утешила:
— Еще увидите. Товарищ Нечуйвитер не гордый, увидите еще.
XXXIII
Марийка Бондарь хоть на некоторое время почувствовала себя настоящей хозяйкой. Правда, Горицвит, земля ему пухом, не наделил ее неродившегося ребенка — Свирид ничего не сказал ему, — но столько земли, сколько у нее теперь, не было даже у ее деда. Говорят, есть страны, где никогда не знали нужды в земле, а у нас на Подолье теснота, как на паперти, плохонькая нивка дороже жизни человеческой, за сдвинутую плугом межу брат брату голову расшибает. Ну да, слава богу, и у них был помещик, да еще в генеральских чинах, так что хватило людям земельки.
После надела, забыв о доме и обо всем на свете, Бондариха несколько дней носилась по всем полям, словно боялась, как бы какие-нибудь полдесятинки не оторвались от урочища да не скрылись из глаз, как сказочный воздушный корабль. Но все ее непаханые нивки, обозначенные свежими, на совесть забитыми колышками, тихонько лежали меж осенними дорогами, в погожие дни над ними летала, дрожа, сверкающая паутинка, а в непогоду они дышали туманом или шуршали дождем, словно по ним шел невидимый путник.
Когда наконец упрочилась уверенность, что ее земля — это уже не сон, Марийка закрутилась; она выбегала теперь не только в поле, но ходила и по ярмаркам, бережно пронося свой живот между круторогими волами и одутлыми, уже непригодными для войны лошадьми. Она жадно прислушивалась к ценам на скот, производила свои подсчеты, даром что за душой у ней не было и ломаного гроша.
Зато дома, перед своими, Бондариха теперь вела себя степенно, ступала загрубелыми ногами по полу будто заморская царица и торжественно, как дары, несла от печи к столу какой-нибудь постный кулеш или «рябушку»[17]. Иван только значительно переглядывался с Югиной, и оба то и дело прыскали, давясь немудреной пищей. Однако и это не выводило Марийку из равновесия, она не щелкала дочку ложкой по лбу, не цеплялась к Ивану, а смиренно вздыхала и только изредка показывала пальцем на лоб — дескать, не пора ли старому да малой поумнеть…
Но через некоторое время Марийка затревожилась. Дошел слух, что петлюровцы прорвались к югу от Летычева. В тот же день она обегала всех соседей, выслушивая самые разнообразные предположения, мимоходом поругалась с Иваном, треснула по плечу Югину, а вечером понесла в церковь мисочку и свечу и обратила к богу слезную мольбу о том, чтобы товарищ Ленин победил всех супостатов, у которых к мужику нет никакой милости.
После своей молитвы и пролитых слез Бондариха с легким сердцем вынесла из церкви свое разбухшее тело: как истинно верующая, она по выражению лика всевышнего, державшего в руке землю, поняла, что он услышал молитву и не оставит ее просьб. Кроме того, она вдруг постигла и уверовала, что мужицкие слезы богу ближе других, ведь недаром же в руке господней покоится вся земля, которую мужик пестует своими руками. Да, всего милосердней должен быть господь к мужику.
Это открытие озарило мнительную Марийку радостью, она шла домой в таком настроении, будто на нее сошла благодать, и только на самом краю ее мечты маячила еще скотинка, пощипывая травушку или волоча по полю плуг.
За церковной оградой Марийку нагнал отец Николай. Она, склонив накрытую двумя платками голову, стала под благословение, поцеловала пухлую, как пампушка, руку, пропахшую табаком, ладаном и старыми, лежавшими в земле деньгами: каких только бумажек не приносили теперь мужики!
Как и про каждого человека, село и про батюшку говорило разное. При гетманщине он был против немцев, а при красных стоит против большевиков. И даром что у батюшки седая борода, он и до сих пор заглядывается на молодаек, а в престольные праздники его везут домой, как последнего сапожника, — допивается отец Николай до положения риз. Но богослужения правит отменно, голос имеет густой и за требы не очень торгуется, — на это больше падка приземистая, как улей-дуплянка, матушка.
Батюшка привычно теребит рукой наперсный крест, вздыхает.
— У вас, Марийка, горе? Чего это вы так плакали в храме божием? — Он, подняв черный рукав рясы, придержал пышную белую бороду. — Может, Иван заболел? Что-то он весьма помногу на собраниях высиживает. Или за это большие деньги платят?