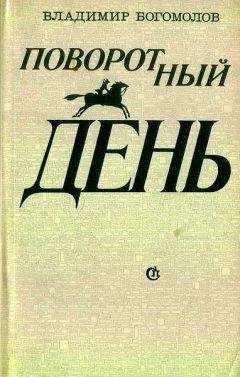Владимир Богомолов - Поворотный день
А на третью военную весну снова написала жена про дружка-приятеля. Будто превратился он в натурального живодера. Не дал в долг под честное слово ни пуда муки… Сговорились по-родственному за пуд осенью полтора возвратить, а пока суд да дело, велел Ефим телку ему привести, вроде залога.
И надо же случаю быть: как раз в тот день пошел Петрунин с боевыми товарищами за «языком». Вроде бы все получилось. Прихватили обера, а немец и накрой их на нейтральной полосе. Кто головой поплатился, кто руками, ногами, а Логвин двумя рваными дырами на ребрах. Но, несмотря на ранение, надежно прикрыл он пленного ганса и доставил в расположение части. За этот подвиг Петрунину медаль была повешена и краткосрочный отпуск предоставлен домой.
Тогда-то по приезде в Сиротинскую и увидал он совсем другого Ефима. Ничего в нем не осталось от того добродушного здоровяка. Даже жена его Любашка диву давалась: откуда в муженьке столько алчности. Ведь до страшного дошло: от родных детей все на замках держит. Зато тестю такое поведение зятя целебным бальзамом лилось в душу.
Если бы протянулась война с Германией еще год-другой, неизвестно, кем стал бы его давний дружок. Но революция поставила все на свои места.
Вернулся домой Петрунин. Не испугался разора и упадка хозяйства. Руки, ноги целы, силушка еще имеется. И Ефим обещал помочь — вернуть на сезонные работы плуг, борону, мерина, взятые у Петруниных как залоговые.
А буквально через два дня все пошло в Сиротинской наперекосяк. По постановлению станичного Совета изымалась из пользования вся лишняя земля у зажиточных казаков, предписывалось им вывезти все излишки хлебных запасов. Проследить за исполнением постановления поручили Петрунину.
И вот уж нашла коса на камень. Не пожелали куркули землицу свою кровную, потом политую передать в общественное пользование а о зерне и слушать не хотели.
Накануне рождества вмешался в это дело красногвардейский отряд, присланный из окружной станицы. Отобрать хлеб отобрали, а вывезти не успели. Спачковались бородачи. Посулами да угрозами загнали в свой отряд не только сынков, но и кое-кого из голытьбы Оружие, слава богу, заранее было припасено. Ночью напали на Совет. Арестовали новую власть. На первый случай землякам намяли бока, а пришлых красногвардейцев разоружили и под конвоем отправили в Усть-Медведицкую, к атаману.
Отлежался Логвин после увесистых кулаков станичников, а утром тайком пробрался к Ломакину. Стали думать, как жить дальше. И надумали: сколотить свой красногвардейский отряд, главным образом из окопников, дружков-односумов. С тех пор и пошла в станице междоусобица.
В стороне от больших дорог стоит Сиротинская. Весной и осенью из-за невылазной грязюки в нее можно добраться лишь по великой нужде. Вот и жили тут казаки точно отрезанный ломоть, по полгода не видя окружного атамана и его послов. Оторванность от державы и сказалась на характере гражданской войны сиротинцев. Поначалу будто не верила ни та, ни другая сторона, что нужно биться по на живот, а на смерть; думалось, что где-то далеко, в Питере, Москве, пошумят, постреляют да утихомирятся.
Но с того момента, как красные агитаторы растолковали сиротинцам международное и внутреннее положение и ленинские слова о нервом государстве без угнетателей и угнетенных, борьба в станице ожесточилась. Теперь, после того как населению-зачитывали очередной приказ об утверждении той или другой власти отныне и навеки, трибуналы не ограничивались штрафом или публичной поркой. Характеристика виновности была краткой и выразительной. И все чаще за станицей или прямо на площади, а то и во дворе или в доме звучали винтовочные выстрелы. Тут уж пошло: кровь за кровь и смерть за смерть. До последнего случая судьба миновала семьи дружков.
И вот — непоправимое горе свалилось на голову Петрунина. Это он почуял сердцем, как только свернули не вправо, а к оврагу, вдоль которого протянулся сиротинский погост и где теперь по решению трибуналов расстреливали врагов и хоронили погибших.
Ефим остановился возле могильного холма, уже успевшего осесть, и, сделав шаг в сторону, мотнул стволом: дескать, подойди ближе.
— Тут твоя Настюха со всеми троими. — Снова в голосе Ефима прозвучали ноты злорадства. И по этому топу понял Петрунин, что не шальной снаряд унес из жизни самых близких и дорогих ему людей.
— Как это случилось, кум? — не питая особой надежды услышать правду, спросил Логвин, не помня, как очутился коленопреклоненным на угластых, точно карьерный щебень, комках могильного холма.
Показалось: целую вечность молчал Ефим, сопя в длинную, точно помело, бороду. Выло слышно, как под его тяжелыми сапогами хрустели песчаные катыши. Наконец он собрался с духом и начал рассказывать:
— Хоть мы с тобой и враги, Лошка, но поверь… Хотел я доброе дело сделать… Встали к тебе господин есаул с ординарцем. А твоя и разродись. Малец, должно, болезный вышел. Орет и орет. Ну, есаул повелел им в летнюю кухню перебраться. Твоя в пузырь. Ординарец, естественно, ее взашей. Витек на того с кулаками. Господин есаул за наган. Антошка и повисни у него на руке. Кто нажал на курок, теперича не уяснишь. Но факт случился. Прострелила пуля все есаульские кишки. У нас, как и у вас, в особом отделе резину не тянут. А тут такое дело — групповое нападение при исполнении. Жена и дети красного командира… Сам понимаешь. Всем вышка. А хозяйство предать огню.
Логвин думал, что сердце его не выдержит, разорвется, но оно, обдав грудь пламенем, вдруг будто окаменело. И эта каменность проникла в голову, заложила уши, застлала глаза. Все, что говори лось дальше, уже не воспринималось никак сознанием Петрунина, не анализировалось, не комментировалось, не представлялось как реальное, имеющее отношение лично к нему. Лишь одно-единое слово заполнило в эту минуту все существо Логвина — слово «умереть».
Очевидно, оно сорвалось с опухших, покусанных, просоленных губ, иначе кум не тряс бы его плечо и сострадательно не обещал.
— Сделаю, возьму грех на душу… Отпустить тебя не могу… Много ты теперь вреда принесешь. А так будет покойнее для всех. Сейчас Чигирь лопату принесет. Все вместе будете… Да ты очнись кум…
Логвин давно очнулся. Лишь с первых толчков не понимал, чего от него хочет Ефим, но, поняв, какая участь уготована ему, ощетинился в протесте, во внутреннем, пока неосознанном стремлении мстить том, кто отобрал у него самое близкое. А чтобы мстить, нужно жить.
Как выжить в этой ситуации? Если уговоры не подействуют, попытаться силой добыть свободу. Если и это не удастся, кинуться за кресты и камни, зайцем петлять, надеясь, что пуля не остановит тебя у черной могилы.
Кажись, кум тоже подумал что-то подобное, отправляет своего приятеля за лопатами. Тот уперся. Чует, гнида, что родственники могут договориться.
Но не мог постигнуть умом Петрунин, на какое коварство способен Ефим. Как только не стало слышно шагов Чигиря, он вскинул винтовку и, почти не целясь, выстрелил в Логвина.
Сколько пролежал боец, стреляли в него еще или нет, он не знает. Лишь открыв глаза, увидел, что Ефим и Чигирь сидят напротив и курят цигарки. Над их головами протянулась длинная узкая полоса раскаленного докрасна неба.
Логвин попытался подняться, сказать этим подлым людишкам, что теперь, если останется чудом живой, до конца дней будет убивать белую сволочь беспощадно, а если нечем будет убивать, станет душить, горло перегрызать. Но страшная боль в боку не позволила ему встать. Он лишь шевельнулся, скрывая за стиснутыми зубами стон. Но этого было достаточно, чтобы те двое по-звериному вскочили на четвереньки и в упор рассматривали свою недобитую жертву.
— Говорил ведь, — торжествовал Чигирь. — Живой!
— Живой, верна-а! — удивился Ефим, поднимаясь в рост и беря винтовку.
Петрунин превозмог боль. Уперся локтями в насыпь, вытянул голову навстречу вороненому стволу. Пусть видит бандит, как умирают красные бойцы. Так говорил воспаленный ум, а сердце хотело, жаждало снисхождения, пощады.
— Кум… — прошептал Логвин и не узнал своего голоса.
Столько в нем было пресмыкательства и униженности, что самому стало противно. Но, поставив перед собой цель — выжить, Петрунин снова обратился к родственнику, как обращался в лучшие годы:
— Послухай, Фишка, а меня за что же?
И кум дрогнул, отвел взгляд. Если бы отвел в другую сторону, не встретился с недоуменной физиономией Чигиря, может, и не грохнул бы в кладбищенской тишине второй выстрел, который сбросил Логвина в заранее отрытую могилу.
Очнулся от банной духоты. Нестерпимо хотелось пить, хотя голову придавила плотная, как тесто, земля. От нее пахло водой. Казалось: возьми ее в рот, высоси влагу и утолишь жажду, притушишь горение в боку и левом плече.
А там, наверху, кто-то стучал монотонно и беспрерывно деревянной колотушкой по глине, точно по голове. И эти удары окончательно вывели его из обморочного состояния. Он понял, что жив. И теперь главное — добраться до родника, что бьет испокон веку в кладбищенской балке.