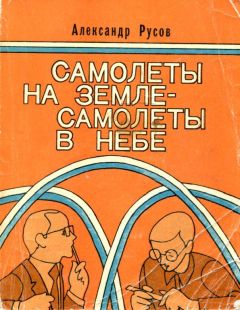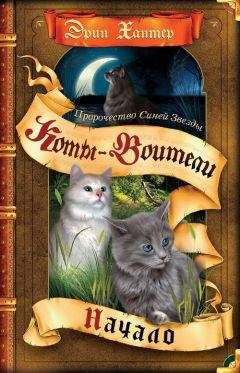Александр Шмаков - Гарнизон в тайге
— Совершенно верно!
— В этом секрет наших сегодняшних и будущих побед. Нам, коммунистам, забывать об этом нельзя.
— Надо знать лучше противника, чтобы легче побеждать, — пощипывая редкие усики, добавил командир взвода.
— Очень правильно! — воодушевился Мартьянов. — Жмите на изучение японской армии, ее тактики, вооружения. Побеждать тогда легко, когда знаешь своего врага, ориентируешься в его армии, как в своей, — он поправил усы, тряхнул головой. — Вы думаете, японцы, немцы, французы не изучают Красной Армии. Шалишь. Специальные университеты создают. Особенно японцы. Я вот такой случай знаю, на курсах «Выстрел» это произошло. Вдруг японские атташе изъявили желание учиться в Военной Академии: мол, Красная Армия самая передовая армия в мире, поэтому неплохо бы ее опыт перенять. Настрочили заявления наркому. Нарком не будь плох, смекнул. «Хорошо, говорит, согласен, но при одном условии». И условьице свое подкинул: мол, в японской армии высоко поставлена политработа, не будете возражать, если несколько комиссаров пошлю в ваши школы, пусть обменяются методами работы. Ну, сразу и охоту отбил. Желание у японских атташе пропало. Вот они какие, враги-то, ничем на брезгуют. Врагов нужно знать, чтоб побеждать их наверняка и с меньшими потерями для Красной Армии…
На квартиру Семен Егорович возвращался бодрым, хотя изрядно намотался за долгий летний день. Хотелось взять гармонь, давно уже ее не держал в руках, растянуть меха так, чтобы захлебнулись голоса.
Но был уже поздний вечер, когда Мартьянов шумно ввалился и еще от дверей звонко и мягко произнес свою излюбленную фразу:
— Горячего чайку бы, Аннушка! — жена поняла, что Семен Егорович возвратился в хорошем расположении духа.
— Что задержался, Сеня?
— Дела-а, — протянул добродушно, — дела-а, супружница моя. Умру, а они меня и в могиле, кажись, найдут.
— Слова-то какие, не вяжутся с твоим настроением, — отозвалась Анна Семеновна.
— Потому и говорю, что не вяжутся. Объездил, матушка моя, полгарнизона за день, аж поясницу заломило, и успел побывать на партийном собрании в батальоне Зарецкого. Вот люди-то там, прямо скажу — хозяева жизни!
Чайник давно уже стоял на столе, прикрытый цветастой «рязанской бабой» и поджидал Мартьянова вместе с ужином. Семен Егорович постучал носком умывальника на кухне, протер досуха холщовым полотенцем грубоватые, обветренные руки и прошел к столу. Закусывая и запивая горячим, крепко заваренным чайком, он рассказывал жене все накопившееся за день из того, что мог поведать смешного, забавного и важного из жизни гарнизона.
Анна Семеновна привыкла к подобным «отчетам» мужа за чашкой чая. Она слушала и Думала, что были они в разлуке десять-двенадцать часов, а казалось, не видели друг друга несколько дней.
— Какие люди в батальоне Зарецкого! — с прежним восхищением проговорил Семен Егорович, отпивая чай из стакана в серебряном подстаканнике, подаренном женой в день рождения.
Анна Семеновна осторожно спросила:
— А сам Зарецкий-то скоро вернется?
— Ждем. А что?
— Всякие разговоры ходят об его жене.
— Язык без костей, пусть мелют, — Мартьянов посмотрел на морщины, густо собравшиеся вокруг глаз жены. — Сморщилась. Ну, что там говорят еще?
— С Ласточкиным она встречается.
— Дело молодое, пусть встречается, — пошутил Семен Егорович, а потом серьезнее сказал: — Высечь ремнем этого девчатника, чтоб на чужих жен глаза не таращил, а знал девок. Теперь их в гарнизоне прибавилось, — и спросил о другом: — От Алешки нет писем? Забыл, дьявол его раздери, не пишет, понимаешь.
Лет восемь назад Мартьяновы усыновили воспитанника полка. Пожил он с ними немного, определил его Семен Егорович в пехотное училище. Нынче должен окончить его, получит звание командира взвода. Уже взрослый, самостоятельный человек.
— Оно и понятно, — продолжал он свою мысль. — Приемный. Гришка был бы не такой. Теплее. Родной сын…
Мартьянов смолк. Анна Семеновна почувствовала всегдашний укор в его словах. Детей своих у Мартьяновых не было, а когда они оба касались этого разговора, он недовольно смолкал, а она чувствовала себя виноватой, хотя вины в этом ее не было — после перенесенной болезни и операции Анна Семеновна навсегда лишилась счастья материнства, самого дорогого в жизни женщины.
— Не печалься, я ведь не виню тебя, — он подошел к ней, взял за плечи, наклонился и провел несколько раз гладким подбородком по ее разгоревшимся щекам. Потом отошел к голландке, прижался к ней спиной, словно хотел погреться, и заговорил:
— Ну, нет у нас детей, где ж возьмем, если нет? Но думать-то об этом не возбраняется, Аннушка? Вот я и думаю иногда при встрече со здоровыми, крепкими парнями в ротах: «Мой сорванец Гришка был бы таким же». Закрою глаза и представляю его красноармейцем, потом командиром, но не гражданским.
Анна Семеновна не перебивала мужа, хотела, чтобы он выложил все, что думал. Выскажет, и ему будет легче.
— Вот и думаю, — продолжал он, — умирая, родители могут завещать детям продолжить с честью их любимое дело. Правда, всегда на место выбывшего из строя бойца встает другой, чей-нибудь сын, но как хочется, чтоб это был твой…
Мартьянов снова подошел к жене.
— А киснуть-то не надо, Аннушка. Не только в детях счастье.
Семен Егорович заставил повернуться жену лицом к окну, а потом шагнул, широко распахнул его створки.
— Вот тоже наше счастье, и нами оно рождено! — и указал на яркие электрические огни гарнизона. — Доброе дело на век. Красуйся!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Милашев ходил и твердил слова стихотворения. Стихотворение давало только тему, нужно было к нему написать мелодию. Он насвистывал отдельные музыкальные фразы, но законченного предложения с нужной трактовкой темы не получалось.
Увлеченный насвистыванием мотива, Василий незаметно зашел в глубь леса. Тихо шумела тайга. Он присел на пень и стал вслушиваться в монотонные и разноречивые звуки.
И вдруг откуда-то ворвалась ритмичная дробь барабана. Это с дальнего стрельбища донеслись то короткие, то продолжительные очереди пулемета, и эхо многократно повторило эту дробь, пока она не замерла совсем. Непрошеная дробь барабана не нарушила общего лейтмотива, а только усилила его, повторила… «Вот этого и не хватает для песни. Фраза найдена. Теперь ее нужно быстрее проиграть, послушать, как она прозвучит».
Милашев вскочил, побежал в клуб и, сев за рояль, ударил по клавишам. «Найдена общая кайма, уловлен контур. В таком темпе пойдет вся песня».
Еще раз проиграл он песню и вполголоса запел:
В глуши лесной о том нам спой,
Как лучшие из лучших
Стрелять идут, в десятку бьют,
Ложатся пули кучно.
Ему показалось, что песня прозвучала просто и сильно. Он записал мелодию на нотные листы…
И вот песня написана. Ее разучили в ротах, поют на вечерних поверках. С того дня прошло два месяца, а Милашева все еще волнует какая-то, на его взгляд, неясно выраженная мысль, все чего-то не хватает…
Что же он упустил? Он подслушал тему. Где? Странно! В тайге… И сразу же написал песню.
Мимо окна проходила рота. Красноармейцы пели «Песнь о десятке». Милашев встал, отодвинул книгу, раскрыл окно. «Надо со стороны послушать, правильно ли звучит песня. Моя и не моя песня. Здесь была пауза, а голоса протянули, и сразу чувствуется, что пауза лишняя. Песня ровнее, сильнее и бодрее звучит без паузы».
Аксанов, который командует строем, ускорил темп. От этого и песня зазвучала мощнее. Василий бросился к столу, перерыл нотные листки и с нетерпением пробежал глазами по нотным строчкам. Да, счет расходился. «Это получилось потому, что песню писал один, а сейчас ее пел коллектив и каждый старался внести свое участие в исполнение песни».
Милашев раскрыл нотную тетрадь и с лихорадочной быстротой стал менять в песне темп, уточнять верхние и нижние ноты. Местами песню следовало играть и петь не только в полную силу. Нет, форте должно перерастать в фортиссимо. Так он сидел, до тех пор, пока сиреневые сумерки не спустились на землю, а линейки нот и точки не стали сливаться в сплошную серую массу.
* * *Начальник связи встретил Ласточкина вопросом:
— Вы изменились за последнее время. Что с вами? — он исподлобья окинул изучающим взглядом комвзвода.
— Не замечаю в себе перемен, — сухо ответил Ласточкин.
— Грубите старшим командирам, опаздываете на занятия, появился холодок к работе. Старого воробья на мякине не проведете… Здесь неудобно разговаривать, зайдемте к вам на квартиру…
Они шли несколько времени молча.
— У вас исчезла заинтересованность к службе, захромала дисциплина. А отчего? Меня больше всего беспокоит это.