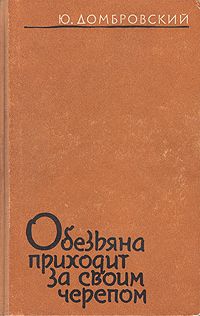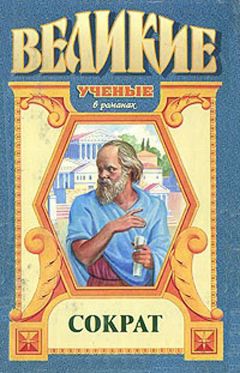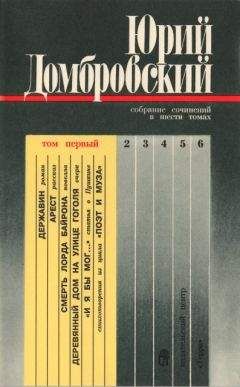Юрий Домбровский - Рождение мыши
Она знала, что это стихотворение Уткина, но из деликатности все-таки воскликнула:
— Очень красивые стихи, — это твои?
Он засмеялся, и поцеловал ее в нос, и не сказал ни нет, ни да, а она обняла его за шею.
Так весело кончился этот тревожный день.
IIА через неделю прямо из пустыни приехал Григорий. Он был в пыли, в соли, в солнечных ожогах, огрубелый, обгорелый, как черт. Соседи молча отдали ключ. Дверь отскочила сразу же. Пахнуло запустением. Он вошел и очутился среди этой пустоты. Она унесла все, что считала своим. Так, кровать стояла ободранная, без пикейного одеяла. Со стен исчезли ковры. Она увезла «Княжну Тараканову», его милую «Аленушку» и оставила «Апофеоз войны». С полок исчезла беллетристика, стихи остались. Из буфета ушел весь фарфор. Под японской вазочкой с бессмертниками лежала записка: «Григорий Иванович, продумав наши отношения, я решила, что…» Он дочел ее, сунул в карман и зашагал по ободранному полу. Зеркало отразило кривую, как будто высокомерную улыбочку и такое лицо, что он поскорее отвернулся. Ну что ж, конечно, он должен был ждать этого давно, и хорошо, что так вышло, это просто нервы разыгрались — ушла и хорошо сделала. Насильно мил не будешь.
И он сидел за столом, улыбался и чертил на обратной стороне записки домики — один, другой, третий. Так его и застала Шура. Она только что сошла с самолета и ничего, конечно, не знала, но, войдя в ободранную квартиру, сразу поняла все.
— Григорий Иванович, — сказала она ему тихо в спину (дверь квартиры была отперта, и ей не встретилась даже домработница).
Он обернулся.
— Вот, Шурочка, — сказал он горько и улыбнулся опять. — Вот, милая Шурочка, видите, что получается? Любил ее, жил с ней, а… — И он так жалко и беспомощно улыбнулся, что она ринулась к нему, охваченная острейшей женской жалостью, сразу позабыв все остальное.
— Григорий Иванович, Григорий Иванович, — бессмысленно повторяла она, — ушла — и бог с ней! И пусть! Пусть! На здоровье! Неужели вы без нее не проживете? Да кто она такая? Что она из себя воображает? Что? Простая домохозяйка, а вы!.. — и не нашла слов.
— А я просто дурак, Шурочка, — мягко докончил он.
Она остановилась, продолжая улыбаться, и вдруг зажглась снова.
— А вы знаете, сколько в Москве говорят о вас? Вы знаете, что в Джуз-Терек вылетела киноэкспедиция? Я ведь только что… — и посыпала, и посыпала.
Они стояли в разгромленной квартире, среди мебели, ободранных стен, чистого белья на стульях, грязного белья в опрокинутых корзинах, но разговор уже шел про Бактриану, Согдиану, и опять замелькали «раскоп первый», «раскоп второй», «посуда зеленого и белого полива», и вдруг среди какого-то очень делового соображения он посмотрел на нее и испуганно отшатнулся.
— Шурочка, какие же у вас замечательные глаза, за такие глаза будут отдавать головы.
— Что?! — удивилась она. — Го… — но вдруг вспыхнула до последней веснушки и огорчилась.
— Ну какие глупости, честное слово! — сказала она. — Глаза у меня вовсе болят от песка — буду вот зеленкой мазать.
— Не надо! Не надо их мазать зеленкой, — произнес он мучительно. — И вообще вам ничего больше не надо: вы очаровательны и так… — И, наклонившись, он стал целовать ее руки.
И вдруг она радостно воскликнула:
— Да стойте-ка! Ведь у меня для вас что-то есть! — Раскрыла сумочку и протянула ему узкий фиолетовый конверт.
«Дорогой Григорий Иванович! Вчера весь вечер проговорила с Вашей очаровательной ассистенткой. Много говорили о Вас. Очень мне хотелось поцеловать ее на прощанье или хотя бы погладить по головке, — да не решилась, — кажется, она очень строгая девушка. К концу недели буду где-то в ваших краях. Встречаться нам с вами пока не надо, но написать я вам собираюсь многое. Шура мне дала ваш адрес не домой, а на институт. Так, говорит, будет лучше. Пока всего хорошего. Вся Ваша H.».
Он поглядел на Шуру и протянул ей письмо.
— Не надо встречаться, Шурочка, а?
— Вся ваша, — гордо ответила ему Шура, возвращая конверт. — Ваша, — и подняла палец, — вся!
IIIНина стоит у окна и смотрит на степь. Несутся, несутся мертвые, словно посыпанные желтой солью, холмы и лысины дюн, трава сухая, тонкая и длинная, как лошадиный волос, и вдруг среди нее вспыхнут желтые и красные тюльпаны.
Поезд останавливается — дощатые строения и раскаленная насыпь — возле насыпи стоит верблюд, на нем сидит казах в белом войлочном колпаке, лицо у казаха блестит, и он, улыбаясь, смотрит на поезд, и вот опять побежала степь, степь, телеграфные столбы с разомлевшими лохматыми беркутами, развалившиеся от степного жара глиняные строения, и опять ничего. Только иногда взыграют перекати-поле и наперегонки летят к поезду, но он проходит, они садятся на насыпь и, как черепахи или крабы, пристыженно расползаются в разные стороны.
Нина пробует читать, но глаза смыкаются, и книга валится из рук. Степь убивает все — она тянется, тянется, тянется, и не хочется ни говорить, ни думать. Но мысль не засыпает, не успокаивается: только закроешь глаза — и все недоговоренные разговоры начинаются сначала. Вот и ты живешь, как эта степь, — только у тебя и тюльпанов нет. Верность! Кому она нужна? Что ты пыжишься и декламируешь? Глупо — и все!
«Она мне нужна самой! Я не из тех, кто моет шею только ради тети Хаи. Может быть, я пойду на крупное преступление, но в лужу, к свиньям, ты меня не затянешь. Тебе это смешно, Леночка? Ну что делать — у всякого свое!»
«Красиво, красиво ты говоришь, Нина Николаевна, но знаешь, кто ты такая? Ты позерша в любви, хочешь дать со сцены то, чего у тебя самой в жизни нет. Джульетта-то у тебя не вытанцовывается, режиссер-то прав, дорогая, а то с чего бы ты и плакала на Сережкиной жилетке? А Сережа-то мой муж, между прочим, а то у тебя и поплакаться-то некому?! Подожди, скоро отберут у тебя героинь и будешь ты играть трагических старух — вот тогда и шипи на здоровье, разборчивая невеста!»
«Ах, отстань, Ленка! Какое тебе дело, что я буду играть, что делать? Сама-то ты больно хороша!»
Она вышла в тамбур. Поезд летел через черную степь, в теплой степной мгле, то вдали, то совсем близко, полыхал совершенно белый огонь — это на степных озерах выжигали старый тростник. Проводник с фонариком и какая-то женщина осматривали пол.
— Потеряли что-нибудь? — спросила Нина.
— Да вот, — ответил проводник снизу, не поднимая головы, — гражданочка вроде как здесь часики где-то обронила.
Он посмотрел еще с минуту и потом решительно сказал:
— Нет, здесь нет! Смотрите в купе.
— Господи, — воскликнула женщина, — это же подарок мужа. Он с меня теперь голову снимет! — и ушла, всхлипывая.
…А вот с меня никто не снимет головы, хоть разбросай все горстями, хоть пустись во все тяжкие — только Ленка захохочет. А как все-таки плохо, когда ты все только своя и не с кем тебе считаться, свободна! «Постылая свобода» — так писали о ней Пушкин и Блок. Надо, чтоб хоть раз в год, что ли, кто-то стукнул на тебя кулаком и приказал: «Это куда ты разлетелась? А ну-ка, снимай пальто — всё! Никуда ты сегодня не пойдешь! Будешь сидеть со мной», — и ты порычишь-порычишь и останешься.
Снова кошачьей поступью вошел проводник и постучал в соседнее купе.
— Джуз-Терек через один пролет, — сказал он через дверь.
Нина быстро обернулась.
— Джуз-Терек?!!
— Да! Вылезают тут двое, — ответил проводник, — фотографы, что ли.
Дверь распахнулась. Длинный рыжий сухой человек, в пижаме и с сигарой в руках, показался на пороге.
— Мы вас… — начал он и, увидев Нину, попятился и прихватил пижаму на рыжей волосатой груди. — Извините, совсем обалдел со сна… Мы вас попросим, — ласково обратился он к проводнику, — помогите нам сгрузить чемоданы, а то там стекло — их бросать нельзя.
— А машины разве там у вас не будет? — спросил проводник. — А то ведь это только название, что Сто Тополей, а там земля, да небо, да черепахи. Хорошо! Все сделаем.
— Вы едете в район раскопок? — спросила Нина.
— Так точно! — по-военному ответил человек в пижаме и поклонился.
— Так вот, там есть Макаров, если бы вы были любезны передать ему пару строк. Я сейчас напишу.
Он отворил дверь купе.
— Заходите, пожалуйста! Вот вам ручка, вот бумага, пишите.
IVСеребристый транспортный самолет делает круг и садится. Шура открывает дверь и вышвыривает часть тюков. Возле белых, желтых и зеленых палаток стоят люди — десятка три полуголых, обуглившихся землекопов с ослепительными заступами, препаратор в сетчатой безрукавке, десяток сотрудников — все они машут руками. В стороне гости. Один курчавый, в черепаховых очках, другой сухой, желтый, курит сигару, остальные стоят над разложенными инструментами.
Григорий спрыгивает на землю. К нему чинно подходит завхоз. Это высокий, совершенно желтый казах в полосатом халате и черно-белой тюбетейке. Он улыбается и показывает длинные тигриные клыки.