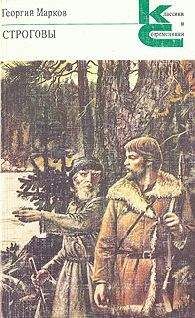Феоктист Березовский - Бабьи тропы
В избе наступила томительная тишина, продолжавшаяся с минуту. И вдруг раздался громкий, чуть хриповатый крик маленького человека.
Постояв еще с минуту, прислушиваясь, Афоня кинулся обратно в избу. Бабка Митрошиха подала ему завернутое в тряпицу, трепещущее маленькое тельце новорожденного:
— На-ка, дедушка, подержи… С внуком тебя…
Параську уложили на кровать, укрыли шубой.
Только сейчас пришла она в себя и радостно почувствовала долгожданный и благостный покой, разливающийся по ее измученному телу.
Лежала ослабевшая. Бледное и осунувшееся лицо ее, склонившееся набок к подушке, утопало в густых черных волосах, рассыпавшихся вокруг головы. Усталые глаза были полуоткрыты. Так же полуоткрыты были и побелевшие губы. А на лбу поблескивали капельки пота.
В комнате разливался голубой рассвет.
Параська тихо и облегченно стонала.
Глава 27
Последние дни рождественского поста деревенские бабы только и жили разговорами о Параське и ее ребенке.
При встречах они судачили:
— У Параськи ребенок-то родился весь в Павлушку Ширяева.
— Да что ты, девонька?
— Истинный бог! Белый да кучерявый…
— Слышь, Митревна?.. Параська-то распросталась.
— Кого ей бог дал?
— Парнишку родила… Сказывают, вылитый Павлушка Ширяев.
— Ишь ведь что!.. Марье-то Ширяевой, поди, стыдоба.
— И не говори, девонька… Осрамила, потаскуха…
При встречах с Оленой бабы притворно печалились, не удерживаясь от того, чтобы не кольнуть:
— Слыхала я, Оленушка… Слыхала!.. Опаскудила тебя доченька-то…
Олена растерянно бормотала:
— Ох, горюшко мое… горюшко…
А бабы безжалостно бросали ей:
— Поди, стыдно тебе и в глаза-то людям смотреть…
Из всей деревни только бабка Настасья Ширяева да Маланья Семиколенная жалели Параську и Олену.
Бабка Настасья дня три ходила близ Афониной избенки, подарки под шубой прятала. Укараулила, когда Параська в избе одна осталась, принесла ей яичек десятка два, маслица коровьего с фунтик, пеленки да рубашонки со свивальником, своими руками тайком пошитые.
А вернувшегося с промысла внука встретила строгим укором:
— За что изобидел девку?.. Иди к ней… упади на колени да проси прощения… А после — к матери.
Павлушка пыхтел и молчал.
Словно кипятком обварили слухи Марью. Боялась она, что из-за худой славы не отдадут Валежниковы свою Маринку за Павлушку. Из-под рук уйдет богатая невеста. Потому и швыряла в Павлушку то ухват, то сковородник, крича на сына:
— Мошенник!.. Варнак!.. Стыдобушка моя-а-а… Глаз теперь не покажешь на улицу… из-за тебя, разбойника…
Павлушка по-прежнему отмалчивался. Своих дружков он уверял:
— Истиный бог, брехня!.. Не причинен я…
Парни смеялись:
— Знаем… Не оправдывайся… Кошка виновата, а не ты.
Смеялись и мужики:
— Отлил пулю Павлушка, язви его…
— Лучше некуда!..
Даже ребятишки — и те смеялись над Павлушкой:
— С сыном тебя, Павлуша!
— С новорожденным!..
И над Афоней издевались ребятишки:
— Эй, пастух!.. Говорят, у тебя дочка приблудного родила?
— С внуком тебя, Афоня! С приблудным!..
От стыда и горя Афоня, продав сначала армяк, потом сапоги, три дня беспробудно пьянствовал.
А посеревшая и еще больше постаревшая Олена часами валялась на полатях и обливалась слезами.
Оборвались разговоры о Параське и ее ребенке неожиданно.
На святках заявился с фронта сын старика Лыкова — Фома, которого давно считали погибшим.
Пришел Фома в полном военном обмундировании и при оружии: винтовку принес, два подсумка и две бомбы у пояса.
Глава 28
Только полдня пробыл Фома в Белокудрине, а по дворам уже слух пошел, что в России новая власть объявилась, которая все права мужикам предоставляет и полную свободу дает, а господ отменяет. Говорили, что Фома привез большие полномочия от этой новой власти.
А Фома в этот же день вечером обежал дворы бывших фронтовиков. Зашел к Ширяевым. Долго сидел у Панфила Комарова, а оттуда забежал к старосте и, не снимая папахи и не перекрестив лба, прямо от порога сказал:
— Завтра к полдню чтобы созвать полный деревенский сход…
— Зачем? — спросил староста.
— Не твоего ума дело! — строго крикнул Фома, стукнув об пол винтовкой. — Раз говорят, значит, созывай…
Валежников покраснел от обиды, но сдержал гнев и спокойно ответил:
— Мне приказывать, Фома Ефимыч, может только законное начальство… от временного правления которое…
— А я от уездного совдепа! — рявкнул Фома. — Будешь саботаж делать… в холодном амбаре насидишься.
Валежников побелел и покорно сказал:
— Хорошо… соберем нето… не сумлевайся… Что лаешься-то?
— Не лаюсь, а приказываю… Понял?
Фома, не простившись, вышел.
От старосты он снова пошел к Панфилу Комарову и долго совещался с собравшимися там бывшими фронтовиками.
А на другой день, к полдню, белокудринцы валом повалили к дому старосты.
На этот раз бабы на сход не пошли. Надоели им бесплодные мужичьи сходы. Да никто из баб и не ждал пользы от новых порядков. Только бабка Настасья Ширяева с нетерпением ждала перемен. Умом-то плохо разбиралась в происходящем, а сердцем чуяла, что поднялась деревня против царя и господ, значит, не утрясется, пока своего не добьется. Знала, что много мужиков по Сибири живет и много горя и обид накопилось у них. Знала, что будут мужики булгачить до тех пор, пока все горе и все обиды смыкают.
Ворошила старую память и вспоминала города, через которые проходила в молодости на богомолье. И там много видела обид и злобы — против царя и против чиновников. Значит, и там будут колобродить до тех пор, пока все перевернут. А коли мужики добьются лучшего, значит, и бабья жизнь будет полегче. Вспоминая бабью жизнь, по-прежнему горюнилась бабка Настасья из-за Параськи и бранила в уме Павлушку озорного. Ведь сколько надежд возлагала на внучонка смышленого. Все думала, что не такой будет, как все парни деревенские. А он что натворил? Опозорил девку и даже думать не хочет о своем ребенке. Бабка Настасья украдкой помогала Параське, чем могла. Но понимала, что не эта помощь нужна Параське в ее бабьей беде. О женитьбе Павлушки на Параське и думать нечего. Что-то другое требуется. А что — опять не могла толком разобраться. Не одна Параська на белом свете с горем мыкалась да слезами умывалась, много было бабьего горя кругом, и слез бабьих — реки бескрайние.
А как его скачать, бабье-то горе, осушить бабьи слезы, не знала бабка Настасья. Только чувствовала, что чем больше колобродила деревня после падения царя, тем крепче врастала в душу надежда на какую-то лучшую жизнь. Копошилась в седой голове еще какая-то смутная надежда на лучшее для себя. В день схода бегала бабка Настасья по морозу от двора к двору в шубенке легонькой, словно баба молодая, чуть клюшкой за снег задевала. Забегала в избы и шепотом баб звала:
— Пойдемте, бабы… послушаем… Может, ладное что привез Фома-то?..
Бабы отмахивались:
— Ну их к лихоманке!.. Одна ругань…
— Да ведь новая власть-то теперь, — настаивала бабка Настасья. — Сказывают, мужичья власть-то теперь… наша…
— А нам какая польза? — смеялись бабы. — При царе ребят рожали, и при новой власти не мужики, поди, будут рожать.
Точно сговорились все. В один голос твердили:
— Не зови, бабушка Настасья, и сама не майся.
— Не пойдем, Настасья Петровна… Не зови…
Так ни с чем вернулась домой бабка Настасья.
Глава 29
К полдню в двух комнатах и в кухне Валежникова дома полно народу набилось.
Мужики заглядывали в последнюю пустую комнату, из которой со стен смотрели раскрашенные на картинках цари и генералы. Но жена Валежникова ушла в эту комнату спозаранку. Когда она заметила заглядывавших в дверь мужиков, кликнула туда Маринку, сердито захлопнула дверь и ключом щелкнула.
В средней комнате, у стены, за столом, покрытым желтой клеенкой, сидел в шинели Фома Лыков — высокий, крепкий, бородатый солдат с лицом корявым и темным, с копной густых курчавых волос на голове. Около Фомы, по обе стороны от него, расположились на длинных скамьях: Сеня Семиколенный, Афоня-пастух, Маркел-кузнец, дегтярник Панфил Комаров и другие мужики из бывших фронтовиков. Тут же около стола, вместе с молодым солдатом Андрейкой Рябцовым, вертелся Павлушка Ширяев. Остальные мужики, в тулупах и в шубах, густой толпой стояли на ногах. Староста Валежников с сыном притулились в углу. К ним жались белокудринские старики и богатеи. Только дед Степан Ширяев да мельник Авдей Максимыч держались поближе к молодым.