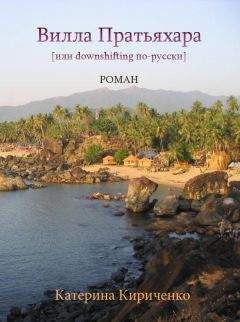Петр Кириченко - Четвертый разворот
— А сияние! — сказал Саныч, отрывая меня от мыслей о докторе. — Откуда красота такая!
Тимофей Иванович крутанул головой и поглядел на него вопросительно, будто бы спрашивая — и действительно, откуда?
Рогачев шумно вздохнул — верно, ему было не до сияния.
Оно разгоралось все ярче, будто бы видело, что мы приближаемся к нему, и замыслило непременно заманить нас и больше не выпустить. Да только что ему наш самолет и наша скорость в восемьсот километров — пустяки. В какое-то мгновение оно выплеснулось пламенем и изобразило длинноногую взъерошенную кошку с зеленым туловищем и красным хвостом; повернув голову, выгнув дугой спину, она взглянула на нас рубиновыми глазами и лениво потянулась. Точно так же ведут себя ее сородичи на пыльных чердаках. Да, собственно, она и гуляла на чердаке, только он имел другие размеры — холодный и продувной. Внезапно глаза кошки разлетелись в разные стороны, как ракеты после запуска, и ее не стало.
— Саныч, видели кошку?
— Блудливая мурка, — откликнулся Саныч. — Надо же! Сколько летаю, ничего такого не попадалось.
В его голосе послышалось восхищение. Но Рогачев чиркнул спичкой, прикурил и твердо сказал, что никакой кошки не было.
— Не было и быть не могло!
— Как знать, — весело возразил Саныч. — Я видел!
— Да брось ты! — взорвался Рогачев. — Ну пусть этот... навигатор... Ему простительно, но ты... Жизнь в самолете прожил, из кресла щипцами не вырвешь. Что, мало тебя носило по свету, мало? А туда же: «Мурка!» Баб там не приметил?
— Не приметил, — невозмутимо ответил Саныч и мягко укорил Рогачева. — Турухтан ты, Турухтан...
— Не понял, — настороженно сказал Рогачев.
— А что понимать? Турухтан, что ли?.. Да я и сам не знаю толком. Слышал где-то...
Я внимательно слушал, понимая, что разговор идет не о кошке, и был готов прийти на помощь Санычу; Тимофей Иванович вертел головой как заведенный, впрочем не забывая зыркать на стрелки, а Саныч, явно издеваясь над командиром, весело говорил о том, что слово запало ему в память, а знать все невозможно, и совсем уж прозрачно намекнул, что если кто решил, будто знает все, то он ошибается.
Ну, Саныч!
Рогачев молча слушал, согласился с тем, что знать все невозможно, и спросил:
— Зачем рассказывал?
— Просто так, — ответил Саныч. — Для всеобщей разрядки...
Рогачев скривился, а мне подумалось, что Саныч прекрасно понимал все, что происходило, многое угадывал и не только делал выводы, но и высказывался. Если бы что-то подобное говорили Рогачеву и другие люди, то он вынужден был бы задуматься. Эту мысль я сразу отбросил: Рогачев как раз один из тех, на кого слова не очень-то действуют.
За пару минут до снижения я зачитал контрольною карту, попросил пилотов доложить диспетчеру, довернул самолет вправо на пять градусов, чем вызвал одобрительное восклицание Саныча, сказавшего: «Вот это я понимаю!» — и глядел на заснеженные Хибины, на угасавшее сияние, на редкие огни земли. Это и было как раз то, от чего предостерегал меня Рогачев.
От гулявшей здесь метели не осталось и следа, и видимость установилась такая, что с десяти километров были видны даже слабые огни между сопками; мерцали в тусклом свете оплывшие вершины гор, снега синели и, темнея, уходили на север. Сияние успокоилось, лишь изредка вскидывалось красными всплесками, напоминая угасающий костер. Мне было слышно, как Саныч запросил снижение, и самолет устремился к земле. Двигателям изменили режим, и они засвистели тонко, обиженно... Все это было привычно, потому что за годы полетов повторялось сотни раз, и все же именно теперь я почувствовал это как-то по-другому, острее. Пришла совсем уж странная мысль, что самолета, на котором мы летели, нет или, точнее, не должно быть, и вслед за нею другая: хорошо, что никто не знает моих мыслей. Можно представить, что сказал бы Рогачев, тем более что это обрывки мыслей, в которых больше чувства, чем понимания. Действительно, я летел в самолете, которого как бы и не существовало; оставалось только посмеяться над собой.
Я смотрел на безмолвную красоту северной ночи, в которой так близко сошлись снега и звезды, сияние и темнота, и совсем не удивился мысли о том, что с этого момента самолет станет для меня совершенно другим; именно он поднял меня над землей, позволяя увидеть с высоты синевшие вершины сопок, приблизил звезды, и все же... Все же я должен был расстаться с ним. И тогда с удивительной ясностью ко мне пришло, что гибель Татьяны, так же как и ее жизнь, не может пройти бесследно, впрочем, как ничья жизнь и ничья гибель. Мелькнула мысль, что надо простить Рогачева — он и так будет наказан, потому что в мире кроме нашей любви и ненависти существует высшая справедливость: в те минуты она увиделась мне в чистых снегах, в сиянии и в том, что мы никогда ничего не забываем...
Резкое снижение заставило меня взглянуть на приборы; конечно, так пикировать любил только Саныч, и я сказал ему:
— Хватит падать, вы — не истребитель.
И тут же услышал голос Рогачева, сказавшего, что пилотирует он сам и немного упустил. Это было почти невероятно: он всегда работал ювелирно, и поэтому ошибка говорила о многом. Десятью минутами раньше я порадовался бы, но теперь...
— Бывает, ничего страшного, — сказал я и попросил довернуть два градуса.
Рогачев принял эти слова за подковырку, что-то проворчал, и Тимофей Иванович поглядел на меня осуждающе.
Мы снизились, вышли в створ полосы, которая чернела среди снега и была отлично видна, приземлились, а через час уже взлетели над сопками и пошли домой. Все как всегда, и поэтому меня удивило, когда Рогачев после посадки вдруг приказал:
— Прошу всех оставаться на местах!
Тимофей Иванович вопросительно взглянул на него, молча напоминая, что надо открыть двери и выпустить пассажиров. Рогачев кивнул, и бортмеханик исчез.
— В чем дело? — спросил Саныч недовольным голосом.
Рогачев не ответил, подождал бортмеханика и только тогда сказал, что намеренно говорит при всех, чтобы избежать кривотолков. Стало ясно, что речь пойдет обо мне, хотя он пока что напомнил о безопасности и авиации вообще.
— У нас не собрание, — прервал он сам себя, — а поэтому конкретно: у меня есть претензии к штурману. Он проявляет рассеянность, ошибается и... Этого вполне достаточно. Вы понимаете, для нас безопасность прежде всего? Вот и хорошо, — заключил он, хотя никто ничего не сказал. — Считаю, лучше поговорить между собой, чем вмешивать командование.
— А когда это он ошибался? — спросил Саныч, растерянно взглянув на меня. — Лично я такого не помню.
— Позже начал четвертый разворот, — ответил Рогачев, но Саныч прервал его, воскликнув: «Эка невидаль! Две секунды!»
— У нас вся жизнь — на секунды, — отрубил Рогачев. — Кроме того, в планчике пишет «Одессу» с двумя английскими «с». Это ни в какие ворота не лезет. А если старший штурман заметит, что тогда будет?
— Ну и что тогда будет?
— Он меня уже предупреждал, говорит, твой штурман «Кишинев» с мягким знаком пишет — безграмотно.
— Это серьезно, — со вздохом сказал Саныч и даже крякнул. — Интересно девки пляшут, да все в ряд... На крючках, оказывается, можно построить целую философию. Слушай! — повернулся он к Рогачеву. — Ты это что, в самом деле? или разыгрываешь нас?
— В самом деле, — подтвердил тот с улыбкой. — Я здесь пока что командир, и, если я сказал, что штурман проявляет рассеянность, значит, проявляет. Или он задумается, или нам придется расстаться. В авиации работают здоровые люди.
— Вот как! Значит, он больной?
Рогачев молчал, выдерживая паузу, перед тем как объявить мне приговор, хотя в сущности, он и объявил не без помощи Саныча: ему-то и нужны были именно эти слова. Даже Тимофей Иванович почувствовал, что в пилотской происходит что-то не то, сжался и с тревогой посматривал на каждого. Лицо его передавало какую-то внутреннюю борьбу.
— А ты что молчишь? — строго спросил меня Саныч. — Тебя это не касается?
— Все слова теперь бесполезны, — ответил я как можно спокойнее. — Таких, как он, надо остановить, пока не поздно, не то...
Мне хотелось сказать, что наступит такое время, когда поставят с ног на голову, но я замолчал, подумав, что оно уже наступило. Но Рогачеву хватило и этого.
— Слышал?! — закричал он и ткнул в меня пальцем.
— Слышал, — кивнул Саныч спокойно, пожевал губами, не представляя, вероятно, как меня защищать, и вдруг сказал: — Мысль интересная, надо будет подумать. А теперь вот что: ты хочешь, чтобы он ушел? Так? Он уйдет, но уйду и я. А ты, Иваныч?
Лучше бы он этого не говорил: Тимофей Иванович задохнулся кислородом, изобразил руками какие-то круги, вроде бы гладил надувные шары, и лицо его выразило такую растерянность, будто бы ему предложили лететь в космос, не давая возможности даже заскочить домой. Саныч это понял, махнул рукой:
— Ладно, оставайся!
Рогачев сник. Возможно, он не предполагал такого поворота и стал пристально следить за Санычем. А тот уже грохотал на всю кабину, что один лишнюю букву поставит, другой, глядишь, переключателями щелкнет впопыхах, потому что кому-то третьему не дают покоя иностранные самолеты. Рукой он взмахивал так, будто бы вбивал гвозди в этого самого «третьего», и больше всего походил в тот момент на тяжелый бомбардировщик, на котором когда-то и летал. Рогачев дважды открывал рот, но Саныч захлопывал его очередным взмахом руки и закончил бомбометание тем, что «делать дурака из человека не надо!».