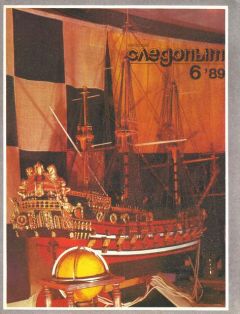Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
Знаю, Мария, когда вы писали это последнее письмо, и вы, несомненно, вспоминали Сокольники и Воробьевы горы и решили, что со мной вы больше не увидите их — не поедете туда. И это, Мария, правда, и я не виню ни вас, ни Сокольники, ни Воробьевы горы. И это, Мария, правда, — вместе больше не поедем туда. И я не виню вас… Да разве вы виноваты в том, что случилось со мной? Мария, может, я виноват? Нисколько. Кто же в нашем несчастье виноват, черт возьми? Родина? Нет, нет! Я люблю ее. Нет ничего прекраснее родины. На ее поля, леса, реки и небо мои глаза никогда не устанут смотреть. Она мила мне и в моем отчаянии, как мила мне была и в моей буйной молодости, освещенной счастьем — тобой, Мария. Она мне дорога и в те минуты, когда в моей душе спокойно — нет ни радости, ни горя. Возможно, виновата в нашем несчастье война. У нас в лазарете есть сестра Стешенко — она теософка и идет к богу по какой-то особой дорожке, — заявила недавно нам, что всех инвалидов надо не посылать в тыл на лечение, а уничтожать на фронте, — инвалиды, подобные мне, приносят одно бедствие обществу и вред государству. «Немцы, — заявила она, — и другие цивилизованные народы своих инвалидов сжигают на полях сражения… сваливают в сараи или в дома и сжигают». Я не понимаю, что такое теософия. Может быть, в учении теософии и нет ничего насчет уничтожения инвалидов войны, а это говорит от себя сестра Стешенко, — все это, как я думаю, не меняет положения. Разумеется, Стешенко нрава, и нас, инвалидов, нужно оставлять на фронте, в братских могилах. Мария, вы, конечно, далеки от откровенных и благородных мыслей сестры Стешенко. Не благородны вы только потому, что не учились, как Стешенко, в Смольном институте. Вы, Мария, не предлагаете уничтожать инвалидов, а просто отказались от инвалида. Или вот еще другой пример. Как-то нас, раненых, водили сестры в Скобелевский комитет, который выдает раненым временное пособие. На обратном пути в лазарет мы, безногие, остановились передохнуть на тротуаре у одного дома. Я так устал, что едва держался на единственной ноге, пот градом катился с лица. Чтобы не упасть, я привалился спиной к железной решетке ворот и свесил голову: мне так было тяжело нести тело, что я готов был, если бы это было можно, душой вырваться из него и оставить свое тело у ворот… Остальные раненые стояли вдоль дома, привалившись спинами к стене и опершись на костыли. Что они переживали, я не знаю, но думаю, то же самое, что и я, — о них, конечно, я сужу по собственным переживаниям. Народ шел беспрерывно. Он не обращал никакого внимания на нас. Некоторые люди отворачивались — это больше молодые, — старались не замечать калек, словно эти калеки были враги им, словно эти калеки дали им взаймы свои жизни и вот они сейчас набросятся на них, прогуливающихся по улицам столицы, и, угрожая костылями, потребуют от них обратно долг — свои жизни. Народ валил мимо, а мы стояли, невеселые, мрачные, чужие городу, чужие толпам, чужие государству, — Мария, мы нужны были только тогда, когда были здоровы. Мои глаза встретились с глазами двух мужчин, еще не старых, годных для войны, — они приблизились в мою сторону. Помню их хорошо, до самой смерти не забуду их лиц. Мария, не забуду их, как не забуду и вашего письма, как слова сестры Стешенко, сказанные ею в перевязочной врачу. Я вижу шапки этих мужчин, воротники меховые, розовые щеки от мороза, усы и бородки в легком инее, выпученные, как у петухов во время пенья, круглые металлические глаза. Нет, никогда не забуду их надвигающейся на меня походки, глаз… И вот они, Мария, заметив калек, повели такой разговор: «Эти молодцы портят нам вкус к жизни, — сказал один. — О чем думает правительство? Оно должно избавить общество от обломков войны. Оно должно отвести для них где-нибудь в тундре уголок земли, пусть они там и ползают». Второй ответил: «А вы не обращайте внимания. Живите спокойно, как жили. Меня не волнуют эти отбросы войны. Они для меня те же черви, что копошатся в земле. Уверяю вас, что они не испортят моего вкуса к жизни. Я свою совесть всегда держу в панцире». Они прошли мимо. Их разговор потонул в гуле шагов, в говоре движущейся толпы. Скажу прямо: если вникнуть в содержание вашего, Мария, письма, то и вы выразили то же самое, что и эти два человека об инвалидах войны. Правда, вы свои мысли прикрыли легкой виноватостью перед инвалидом и смущением и жалостью к себе, а они, эти человечки, выразили свои мысли деловито-спокойным тоном, с присущей им наглостью и цинизмом. Но совесть ваша в таком же панцире, как и совесть этих человечков. Испугался ли я того, что происходит с вами и со мной? Можно ли напугать человека, прожившего 740 дней и ночей под пулями и снарядами, участвовавшего в 187 штыковых атаках? Невозможно. Меня даже смерть боялась и теперь боится. Я все время хотел подружиться с нею, а она, чертовка, бежала и бежит от меня, но все же, Мария, я ее поймаю. Но ваше письмо, повторяю, как и разговор двух человечков, страшно… Оно повергло меня в смятение, и я до того растерялся нравственно, что стал слабым и беспомощным. Мне, конечно, трудно набраться сил, но я попробую…»
Семен Федорович перевел дыхание, взглянул на меня:
— Устали, Ананий Андреевич?
— Нет, не успел еще, — отозвался я. А на самом деле у меня дрожали руки, а внутри все ныло.
«Зачем он пишет такое письмо Марии? Да и есть ли у него эта Мария? Может быть, он диктует этот бред мне для тою, чтобы освободиться от накопившегося в его голове хаоса мыслей, которые жгут его мозг и терзают сердце?» — подумал я.
Прокопочкин сидел на койке, глядел в окно. Его голова была втянута в плечи, руки сложены на груди. В ногах лежал протез. Другие раненые, закрыв лица одеялами и простынями, лежали неподвижно. Спали ли они? Прокопочкин уже теперь не был для меня таким простачком, каким он показался мне в первые дни моего знакомства с ним. Я видел в нем не просто сказочника, а человека умного, видавшего много в жизни. Он, видно, в прошлом, до войны, такой же, как и я, бродяга: немало исколесил дорог на земле.
Восковой нос Семена Федоровича качнулся в мою сторону. Я вздрогнул и невольно остановил взгляд на нем.
— Ананий Андреевич, а ты все записываешь, что я говорю? — спросил Семен Федорович.
— Да, — ответил я. — Ты грамотный и можешь проверить. Пока не пропустил ни одного слова.
Синюков откинул с лица одеяло и, открыв правый глаз, сказал:
— Это не письмо, а шкура ежа. Она хотя и будто не для меня назначена, но я чувствую в сердце его иглы.
Семен Федорович не ответил. Промолчал и я. Правый глаз Синюкова синел из-под края одеяла.
— И Марии у него нет никакой, — отрезал он твердо, с ужасом в голосе и закрыл одеялом глаз.
«Неужели и Синюков заплакал? — в смятении подумал я. — Вон и Первухин открыл лицо, взял платок и сморкается». В это время сбросил с себя одеяло Игнат Лухманов и резко сел. Голова у него забинтована, под глазами сизые мешки, щеки пухлы и желты.
— А я сочинил новые стихи, — сообщил он хриплым, испуганным голосом. На его сизых толстых губах просияла дикая улыбка. — Вечером я вам прочту их.
— Лухманов, закройся одеялом, — предложил сурово Семен Федорович. — Не мешай мне говорить, а Ананию Андреевичу записывать.
Игнат послушно лег и закрылся одеялом. Первухин перестал сморкаться, отвернулся к стене, вздрагивая мелко правым плечом.
— «Мария, я уже сказал выше, что я не герой. И не подумайте, что я трус. И не трус и не герой, а человек без крайностей, — стал продолжать Семен Федорович. — В лазарете жизнь не движется вперед, лежит вместе со мной в постели, в белых простынях. На фронте целых два года она была в движении, в дыме и пламени. Но я не помнил ни ночей, ни дней — все числа спутались в моем сознании. Да что об этом писать! Первого октября наш полк пошел в наступление, — говорят, наступала вся армия, — на своем участке он прорвал три линии проволочных заграждений противника, выбивал гранатами и штыками его из окопов. Успех сражения клонился в нашу сторону. Я был жив и невредим, то есть не имел на теле ни одной царапины, — смерть игнорировала меня. Меня облетали пули и осколки снарядов, а штыковые удары, направленные немцами мне в грудь, я легко, как бы играючи, отбивал и шагал по свежим трупам противника вперед и вперед. Видно, полк наш увлекся, и противник ударил нам во фланг, на третий батальон, захватил знамя, и оно уже развевалось в руках его. Взводный обратился к нам. «Братцы, — крикнул взволнованно он, — третий батальон погиб, потерял полковое знамя в бою, мы должны вернуть его своему полку; рота, вперед, за мной!» Рота — ротный был убит в начале атаки — поднялась и побежала в штыковой бой. Я ничего не помню: видел только трепет знамени на древке. Я прокладывал штыком и гранатами дорогу к нему и добрался до него; знамя полыхнуло мне в глаза пламенем, и через несколько секунд оно было в моих руках, обагренное кровью русских и немецких солдат. Взводный в этом бою был убит, и он лежал в нескольких шагах от меня, на груде убитых немцев, защищавших чужое знамя. Я держал знамя над собой. Оно было тяжело и легко: кровь делала его тяжелым, а победа легким. Цепи наших солдат рвались вперед, за немцами. Противник бежал. Винтовочные редкие выстрелы трещали впереди. Оттуда же доносились и крики «ура». Орудия молчали. В туманном небе желтело солнце. Я подошел к взводному и прикрыл его знаменем. Сердце мое разрывалось на части, когда я держал над ним полковое знамя. От взводного я впервые услышал о человеке с фамилией Ленин и запомнил эту фамилию, так как она была взводным произнесена с великой нежностью.