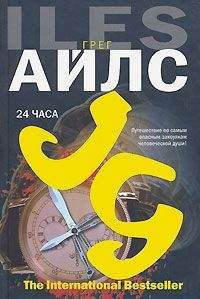Эльза Бадьева - Допуск на магистраль
В общем, он радовал Дубова. И только однажды огорчил. Нет, «огорчил» — не то слово...
Дубов второй месяц работал директором завода. Он сутками пропадал в цехах, и кабинет его постоянно был закрыт. Только сегодня в двери с наружной стороны торчал ключ. Дубов против обыкновения сидел в кабинете. Окна были раскрыты настежь. Теплый ветер трепал легкие белые занавески, пахло свежей травой и цветущими липами.
Директор завода разговаривал с Москвой.
В кабинет вошла рассыльная Феня, постояла у стола. Дубов сдвинул брови, жестом выпроводил ее за дверь.
Он разговаривал долго, нервничал, кричал, что из-за нехватки специальных сортов резины попадает под угрозу особый заказ.
Он забыл о Фене. И только когда получил заверение, что резина будет завтра же доставлена самолетом из Средней Азии, когда поблагодарил, повесил трубку и вышел в приемную, — заметил ее.
Феня сидела в кресле, склонив голову к самым коленям и уткнувшись лицом в ладони. Плечи ее часто вздрагивали.
— Что еще? — изумился Дубов. — Феня, что с вами?
Она молчала.
Дубов сел рядом.
— Что случилось?
Феня в ответ всхлипнула и подняла на него заплаканные глаза.
— Николай Трофимыч, несчастье у меня!
— Боже мой! — развел руками директор. — Такая молодая, цветущая девушка не может быть несчастной...
— Еще шутите, — горько вздохнула Феня и опять разрыдалась.
Дубов знал, что мать и сестра у нее здоровы, живут вместе с Феней, и потому ничего трагического не предполагал.
Ему не хотелось с ней разговаривать. Он не симпатизировал ей.
Когда-то Феня работала в его цехе буфетчицей. За какие-то коммерческие махинации ее уволили, и после этого она долго не показывалась на заводе. Потом пришла с повинной к начальнику ОРСа, просила, чтобы взял работать хотя бы уборщицей в столовую. Но в столовую он ее не взял, а устроил в цех. Из цеха она каким-то образом перебралась в заводоуправление рассыльной при директоре.
Пересилив себя, Дубов подал Фене стакан воды.
— Успокойтесь. Объясните, в чем дело?
— Любовь у меня... несчастная, — проговорила наконец Феня и залпом выпила воду. — Взять бы да умереть лучше...
Дубов вернулся в кабинет, Феня вошла за ним следом.
Как мог мягче, он сказал ей:
— Любовь — всегда счастье, если это на самом деле любовь.
— Ну, да! — в отчаянии выкрикнула Феня. — Счастье!.. Он эту мою любовь ногами топчет. А ведь, может быть... может... ребенок появится...
Она снова спрятала лицо в ладони и заплакала так громко, что Дубов невольно оглянулся на дверь.
Он встал, походил взад-вперед по кабинету, потом остановился перед Феней и строго спросил:
— Почему ко мне с этим своим делом пришла?
— Потому что он только вас послушаться может.
— Кто он?
Феня выпрямилась и вызывающе бросила:
— Сергей Грохотов, вот кто!
Он прибежал, запыхавшись.
— Что, Николай Трофимыч? — и, выравнивая дыхание, пояснил: — На соревнование парашютистов едем.
— Садись. — Дубов закурил и впервые не протянул коробку Сергею. Снял телефонную трубку.
— Феня, спуститесь вниз, скажите ребятам — пусть едут одни, Грохотов занят.
Сергей метнул на Дубова быстрый взгляд и все понял.
— Это к лучшему...
Дубов зло швырнул трубку.
— К лучшему, что вы знаете, — с трудом закончил Сергей.
Избегая взгляда Дубова, он медленно прошел к столу.
— Выкладывай! — рявкнул Дубов. — Все как есть. Начисто...
Он вдруг ссутулился, низко опустил голову, сжал в кулаки лежащие на столе руки. В глазах загорелись колючие, враждебные огоньки.
— Я не виноват, Николай Трофимыч! — чуть слышно произнес Сергей.
— Врешь! — стукнул по столу Дубов. Таким Сергей никогда не видел его прежде. Даже при самых яростных спорах он умел сохранять спокойствие, умел слушать собеседника, сам учил выдержке Сергея, ругал его за то, что часто срывается, по-мальчишески кричит, злится.
Сергей замолчал. Замолчал и Дубов. Злые огоньки словно погасли: глаза спрятались под нахмуренными, строго сдвинутыми бровями.
— Ну, говори...
Говорить было трудно. Комкая в руках кепку, глядя в пол, Сергей рассказал, как впервые в жизни... напился.
— Вечеринку собирали девчата из заводоуправления. Парни присоединились: Вася Грищук, Иван Симоненко... Меня пригласили. Я и не думал идти, да они вечером всей компанией в общежитие нагрянули. Упрекали, что, мол, от ребят откалываюсь, повеселиться с ними зазорным считаю, Феня, так та даже заявила: «Что ему наша компания? Вот если бы директор завода позвал, на крыльях бы полетел!» Мне как-то неловко стало. Пошел... Собрались у Фени. У нее самая подходящая квартира: просторная, и соседей нет. Я голодный был. С утра как замотался — пообедать не успел. Ну, наверное, и опьянел сразу. Только и помню, как за стол садились. Больше ничего. Утром проснулся... в постели. И она рядом. И в комнате больше — никого. Я и встать-то не знал как. А она лежит, улыбается. Доброго, говорит, утра... — Сергей покраснел, смолк. — Я с тех пор... избегать ее стал. Неприятно было встречаться. Вчера, когда дежурил в комитете комсомола, пришла, отыскала меня, сказала, что любит. Плакала. Угрожала... А сегодня ее мать была.
Дубов приподнял голову, устало попросил:
— Хватит. Иди...
Сережке стало трудно жить. Он чувствовал это на каждом шагу. Разбирали на комитете нечестный поступок подравшегося «по пьянке» Виктора Сердюка, а он, Сережка, думал о себе, принимал полные горячего возмущения речи членов комитета в свой адрес. Боялся поднять глаза.
Возникала необходимость зайти в заводоуправление, и он сталкивался с Феней. Нужно было решить трудный вопрос, и он не мог обойти кабинет Дубова.
Ко всему этому прибавилась другая забота. Надвигалась заводская отчетно-выборная комсомольская конференция, и Сергея предполагали рекомендовать комсоргом завода.
Да, жить стало сложнее. Мысли словно бы измельчали: все они сводились к неприятной истории. Не хотелось работать, не тянули книги. Даже в училище он теперь занимался нехотя.
Он ненавидел Феню, презирал себя, стыдился людей, боялся Дубова. Это было отвратительно. С этим необходимо было покончить.
Он постучал и вошел к директору завода. Дубов поднялся навстречу, и Сергей заметил, как радостным блеском засветились его глубокие, темные глаза. Но только на миг. Он словно потушил радость. Сел, отложил бумаги.
— Пришел... все-таки!..
— Николай Трофимыч, как быть? Может, на комитете рассказать? Пусть разберут, пусть отругают. Пусть что-нибудь скажут наконец!..
— Скажут только одно, — спокойно произнес Дубов, — надо жениться.
У Сережки похолодели руки.
— Как?..
— Очень просто. Зарегистрировать брак в загсе и отпраздновать свадьбу.
— Что вы, Николай Трофимыч! Без любви?!
— А ты, сопляк, что такое любовь — знаешь?
Нет, Дубов жестокий и черствый человек! Сергей теперь очень хорошо это чувствует. Он уже жалеет, что пришел сюда...
— Знаешь? — требовательно переспрашивает Дубов, и Сергей неуверенно отвечает:
— Кажется... кажется, знаю...
Он вспоминает тоненькую, гибкую Аннушку. Золотистая коса перехвачена белой лентой. Глаза серые, ласковые... хорошие. Аннушка идет с ним рядом по избитой колесами и подковами мягкой лесной дороге. Идет на расстоянии шага, и он, Сережка, никак не решается переступить этот шаг. Платье на Аннушке белое, нежное, по нему словно рассыпаны мелкие голубые васильки.
Она босиком. Загорелые ноги ступают легко и быстро. Сергей несет босоножки. Несет осторожно, с удовольствием, потому что эти пыльные, стоптанные, с оборвавшимися ремешками босоножки — Аннушкины. Наверное, ему и платье кажется красивым потому, что на Аннушке.
— Сережа, — осторожно и как-то очень тепло спрашивает она, — а в следующее воскресенье пойдем?
— Конечно! — восклицает Сережка и чувствует себя самым счастливым на всем белом свете. — Конечно, пойдем!
— ...Кажется! — зло передразнивает Дубов, и от его голоса исчезает солнечный день, мягкая лесная дорога, тоненькая большеглазая Аннушка.
— Я у них дома был, — говорит Дубов. — С Фениной матерью познакомился, с сестрой. По-моему, хорошие люди. В семью тебя ждут.
...За окном, оказывается, хлещет дождь. Сергей и не заметил, как исчезло солнце и нахмурилось небо. Дождь косой, унылый, холодный. Дубов еще что-то говорит, но Сергей не слышит.
...Где-то на запасных путях стоит эшелон. В теплушке темно и душно, а на улицу носа не высунешь: дождь. Сергей стоит, прислонившись лбом к холодному, влажному брусу двери, и смотрит, как набухают лужи, темнеют, покрываются сизыми, маслянистыми пятнами шпалы. На сердце невесело. Ребята в вагоне тоже присмирели. Переговариваются шепотом.
Дадут отправление, и состав уйдет от станции родного подмосковного городка в дождь, в ночь, в войну. Сергей не может оторвать тяжелого взгляда от размытой земли и вдруг видит, как по этой земле ступают быстрые, легкие, загорелые ноги. Он поднимает глаза и не верит им. Перепрыгивая через шпалы, лужи и рельсы, к эшелону бежит... Аннушка, закутанная в плащ, в опущенном по самые брови капюшоне. Она еще издали замечает Сергея, откидывает капюшон, машет рукой.