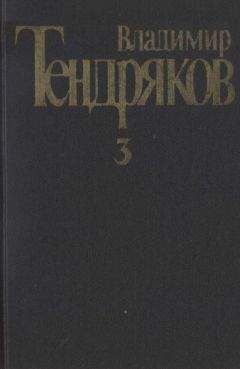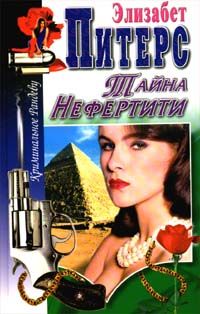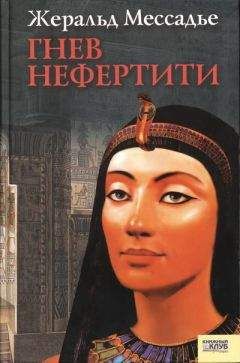Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
— Жеребец! Кобелина! Выйди ко мне! Я вырву зенки-то, бесстыжий! Люди добрые, он сейчас с толстомясой спит! Эй ты! Толстомясая! Покажись, стерва паршивая! Ба-аишься!.. Б… ты последняя!.. Люди добрые! Слышите! Мой-то кобель при живой жене с толстомясой!..
Люди добрые слышали, ворочались в своих постелях, не могли уснуть, но молчали — охота ли связываться.
Уже в первые дни своего поселения Федор понял — не то место, где можно переживать порывы творческого вдохновения, которые должны исторгнуть слезы благодарности у ценителей искусства. Но Вера Гавриловна под разными предлогами забрала за комнату чуть ли не за год вперед. А денег нет, Федор с грехом пополам кормился случайными приработками. Нет денег, нет и времени, чтобы поставить холст на мольберт, — все дни уходят на поиски — волка ноги кормят.
Начинающий свободный художник, ты зависим даже от безобидной и покладистой Веры Гавриловны, которую никто ни во что не ставит. Не угоди ей — выбросит на улицу, ее право.
4Месяц тому назад Федор, вернувшись вечером домой, увидел, что дверь в комнату Веры Гавриловны распахнута настежь, свет зажжен во всей квартире.
Сашка с причесанными мокрыми волосами, в чистой рубахе вышел навстречу Федору.
— А у нас гость, — сообщил он и ядовито хихикнул: — Жених…
— Федор Васильевич! Идите сюда, познакомьтесь, — пропела из комнаты Вера Гавриловна.
Молодой человек, голова без шеи приставлена прямо к широким плечам — от плотного телосложения кажется горбатеньким, — стрельнул черным глазом в зрачки, с девичьим смущением опустил короткие ресницы, протянул крепенькую ладонь:
— Миша.
Аня в самой нарядной сиреневой кофте, тщательно раскинув по койке юбку-плиссе, составив тесно ноги, туфелька к туфельке, сидела с замороженным взглядом и острым равнодушным личиком, словно спала с открытыми глазами.
И Вера Гавриловна принаряжена, облачена в ветхое, но чистое платье.
Виктора не было.
После появления Федора наступило неловкое молчание, оно, наверное, тянулось и до его прихода.
— Чтой-то: погода, никак не установится, — заметила Вера Гавриловна.
— Да, не установится, — согласился гость.
— По радио обещают прояснение.
— Да, всего можно ждать.
— А в прошлом году в эту пору, кажись, теплынь была.
— Да, кажется, была.
Поговорив так с полчаса, гость поднялся:
— Спасибо за приятную беседу. Извините, уже поздно.
Подошел с ручкой к Вере Гавриловне, к Федору, не миновал Сашки, каждого наградил сверлящим испытующим взглядом, двинулся раскачечкой к двери, неся покоящуюся в плечах расчесанную глянцевито-черную голову.
Аня встрепенулась, бросилась провожать.
— Ну как вам, Федор Васильевич? — кивнула Вера Гавриловна на хлопок дверей.
Федор пожал плечами.
— Глаз у него какой-то… К нам жить собирается переехать. Намекал — две комнаты занять, Анину и вашу.
— Вот как. Мне искать другую квартиру?
— Ни-ни, не дам! А на что я жить буду? Вы платите, а они ведь ни копейки мне не дадут. Ни-ни, живите. Глаз у него какой-то… Ох, господи!
Месяц подряд Миша наведывался, проходил мимо комнаты Федора, запускал изучающий взгляд, вежлив здоровался, склонив голову, — мягкий, бесшумный, ловкий в своей медвежеватой неповоротливости.
Виктор вздрагивал при его появлении, сухо здоровался. Как-то неожиданно он спросил Федора:
— А скажите: есть в жизни эта любовь или она только в книжках?
Сашка объяснил Федору:
— Витька завидует, сам, хочет жениться. Он Алку любит, даже говорил с ней: брось Лемеша. Алка ответила: «Куда тебе, сопливому!..»
Было за полночь, когда он вернулся от Нины. Но в квартире, не спади. Стучала швейная машина — что-то новое, в хозяйстве Веры Гавриловны машины не было.
Вера Гавриловна просунула в коридор нечесаную голову, радостно сообщила:
— А у нас завтра свадьба. Миша-то с Аней расписались!.. Мы тут прямо запарились, обновы шьем, старое на новое вывертываем… Вы уж завтра вечерком никуда не уходите. Очень просим. Вечерком-то с нами погуляете… Ах, вот что, мы тут столик из вашей комнаты на время взяли. Завтра, как кончится, вернем.
В комнате на полу лежали снятые со стола книги и бумаги. Без стола было непривычно просторно и неуютно. За стеной стучала швейная машина.
Федор вспомнил, что ему завтра утром надо набросать эскиз, как украсить витрину магазина. А стола нет, не на коленях же работать?
Витрина, колбасы, окорока, головы сыра, а у Нины остался эскиз новой картины. Он смог бы заставить петь холст голосом скрипки… Вот по тому эскизу, карандашному, завтра утречком набросает новый эскиз в красках.
В этом году обещают открыть выставку молодых художников. Вячеслав заканчивает свою картину, есть слух, что даже Иван Мыш что-то стряпает по этому случаю.
А он, Федор, много уже месяцев не стоял за мольбертом, неизвестно, когда встанет, да и встанет ли вообще…
Завтра он будет сочинять, как удобнее раскомпоновать в витрине чудеса гастрономии. А если плюнуть, взяться за эскиз, плюнуть на все? Но к концу недели в карманах не окажется и гривенника…
И стол вынесли из комнаты. И стучит за тонкой стеной швейная машина…
5Составленные столы накрыли простынями.
Жених Миша в черном новеньком костюме, в петлице бумажная роза, узел галстука не дает опуститься подбородку, отчего вид у жениха комично величавый.
Приехала из деревни мать Миши, широкая в кости старуха с азиатчинкой в горбоносом лице. Она уселась в уголок и задремала, но время от времени веко приоткрывалось и проглядывал круглый зеленый глаз — всепонимающий, трезвый, цепкий, вовсе не сонный. Секунда — и снова дремотно опускается сморщенное веко.
Неожиданным гостем оказался не кто иной, как Лешка Лемеш. Алла не захотела приходить на свадьбу без него.
Лешка наряден — в темно-синем бостоне, белоснежная сорочка оттеняет ровную смуглоту щек, чуть просвечивающую застенчивым румянцем. Держался он сдержано, с достоинством, за столом ухаживал по-джентльменски на два фронта — подкладывал в тарелку Вере Гавриловне и разрумянившейся Алле, красивой до того, что все чувствовали неловкость и какую-то смутную жалость к себе.
С другого бока Аллы сидел Виктор в новом галстуке и пиджачишке с подметанными рукавами. Он почти ничего не ел, боялся дышать, не смел глядеть в сторону соседки. В самом начале он хватил водки, закашлялся, и краснел до слез.
Лешка Лемеш ласково заметил:
— Не привыкай к этой отраве, мой мальчик.
И, всплеснув гибкой рукой в воздухе, требовательно взывал:
— Горько!
Аня неуклюже клевала носом в жениха. На Лешку Лемеша чаще других стреляла оком сквозь дремотно приоткрытое веко мать жениха.
— Горько!
Лешка пил, розовел, сдержанность его исчезала:
— Дорогие граждане, собравшиеся на это торжества. Дорогие граждане! Разрешите мне речь!
Ему никто не разрешил, но он встал, ладный, собранный, только под смуглотой пьяненько пылают щеки, и блескивают в снисходительной улыбочке мелкие, тесные зубы. У Аллы ласковой влагой подернуты большие глаза.
— Кто вы? — Лешка взмахом руки обвел всех за столом. — Кто? Не в обиду будь сказано — обычные люди. Вас таких много. А можете вы оценить талант, редкую способность?.. Не тот уровень. Среди вас находятся таланты, может, гении… Не замечаете, доблестные работяги? Сейчас я их продемонстрирую. Сашка! Эй, сынок! Утрем нос цивильному населению! Встань, лапушка, подойди, когда старшие зовут!..
Маленький Сашка, целый час перед торжеством вылизывавший свои вихры стянутым со стола сливочным маслом, подошел, вяловатый, с неизменной коварной улыбочкой на бледных губах.
— Сашка! Друг! Брат по несчастью! Нас здесь обоих не признают! В-вы! Видите человека?! Экземпляр! Птица феникс! Не признают нас! Неси мою гитару: «С гитарой и шпагой я здесь под окном!» Сюрприз для новобрачных!.. Тиш-ша! Не шевелиться! Минута святого искусства, а дальше можете хлестать свою водку. Тиш-ша!
Лешка Лемеш с гитарой картинно приосанился на своем стуле. Рядом встал Сашка.
— Что вы ждете, драгоценные обыватели? Романсов? Надрыва? Слезы в пьяном угаре? Не ждите! Не будет романсов!.. Сашка! Народную! Из глуби, из сердца веков! «Лучинушку»!
Сашка посерьезнел, солидно откашлялся, наморщил голубовато-чистый лоб.
Лешка начал с той не открывающейся сразу, сбереженной в голосе болью, с какой начинают все истосковавшиеся по песне, ждущие от, нее многого.
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит…
И Сашка подхватил. Его голос, более низкий, решительный, сразу стал в голову, заставил Лешкин тенор нежно и затейливо оплетаться вокруг.
Знать, мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит…
На склоненном Сашкином лбу страдальческие морщины. Из расплывшихся во всю роговиц глаз Лешки истекает черная тягучая тоска. Один — мальчишка, уже чуть тронутый порчей городской улицы, не очень искренний, навряд ли, добрый от природы, другой — люмпен, накипь в людском обществе, цена, которую рано или поздно снимут и выплеснут. Оба выросли в этом тесном дворе, среди каменных, домов, на асфальтовой почве. Но откуда у них волчья избяная тоска? Откуда им знать о долгих зимних, без просвета вечерах среди бревенчатых стен, похороненных в сугробах? Откуда им знать, как воет ветер и чадит лучина — единственный свет, единственный друг? Откуда знать им, когда сам Федор этого не пережил? Федор, родившийся в деревне, видел керосиновую лампу, но не застал светца.