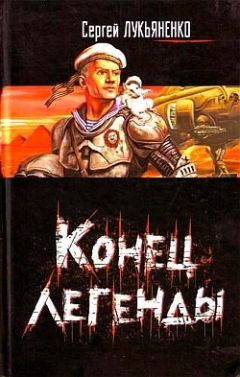Сергей Снегов - Река прокладывает русло
— Не заметил, — признался он честно. — Вежливой ты не была, скорее наоборот.
— Но это еще не все, послушай. Я знала, что рано или поздно ты придешь к нам в отделение. И вот тут начиналась моя настоящая месть.
— Ты собиралась мешать мне налаживать регуляторы? — спросил он с любопытством.
Она воскликнула с негодованием:
— Какого ты обо мне мнения! Неужели ты в самом деле считаешь меня такой скверной? Нет, моя месть была совсем другого рода. Я решила помогать тебе больше, чем Лубянский, все, все сделать, что потребуется. А потом — и обязательно на совещании, чтоб все слышали, — объявить: «Вообще-то мы, технологи, надеялись на большую автоматизацию, но раз товарищи автоматчики на это не способны, придется примириться и с тем немногим, что они предлагают».
Лесков расхохотался.
— Да, вот это месть! Ручаюсь, я был бы поражен в самое сердце!
Удовлетворенная, Надя обняла его, потом сказала с сожалением:
— Теперь, конечно, все эти мечты придется оставить. А следовало бы, за многие твои грехи…
Он согласился, что грехов у него достаточно, человек он в принципе неважный — скучный, нетактичный, малоразговорчивый. Надя не дала ему продолжать перечисление своих недостатков и решительно возразила, что он вовсе себя не знает, ей видней.
— Лучше возвратимся к нашему разговору, — предложила она. — Ты ведь не закончил своих мыслей.
— Да, не закончил, — сказал он. Теперь он заговорил о трудностях своей работы. Все дело в том, что сумрак старого еще не рассеялся, еще сильны старые привычки и предрассудки. Черные тени ползают по земле, и правильные масштабы искажены. Лет через сто о нашем времени, может быть, станут говорить: «Это была великая эпоха, революция в промышленности, сделавшая человека свободным». А мы до обидного не понимаем грандиозного содержания своей работы и путаемся в пустяках, в раздутых тенях — служебном самолюбии, бризовских премиях, личных антипатиях, сметных графах и параграфах. Вот эти — Галан, Закатов — они поток, первый вал потока, сметающего старые формы промышленности. А что они видят в своей работе? Мечты Галана дальше крупной бризовской премии не идут, Закатов же работает, и точка. А Кабаков, твой Савчук и Крутилин, самый косный из наших руководителей? Они знают только нужды сегодняшнего дня. Кабаков честно помогает, о Савчуке и говорить нечего, а Крутилин мешает — вот уж кого я не терплю! Но знаешь, что я тебе скажу, Надя? Так странно идет развитие, так неотвратимо все дороги ведут в одну точку, что даже помехи выливаются в помощь. Крутилин видит одни недостатки в новом, ему трудно переучиваться. Но он, выпячивая недочеты, заставляет задумываться, как их устранить. Он сопротивляется — сейчас и сопротивление помогает. Трение — помеха движению, конструкторы бьются, чтоб уменьшить его. Но уничтожь совсем трение — не будет самого движения. Лубянский однажды привел слова какого-то философа: голубь заметил, что чем выше он забирается, тем легче летать. И он решил — высоко наверху, в безвоздушном пространстве, откроются наилучшие условия для полета. Но крыльям голубя там не было опоры, и он рухнул вниз. Какое-то трение должно быть, какая-то инерция необходима, но только не такое трение, при котором движение захлебывается, не такая инерция, которую не сломить.
Надя задумчиво сказала:
— Знаешь, в нашей повседневной работе мы часто забываем ее высокий смысл, это ты прав. Нужно выполнять суточный план, думаешь только об этом. Но если мы не говорим, то мы чувствуем смысл, понимаем, что он есть. Иначе было бы ужасно работать. Как по-твоему?
— Да, конечно, — ответил он. — Я хочу только сказать, что это внутреннее чувство не всегда и не у всех становится сознательным пониманием.
Так, обмениваясь мыслями, открывая друг другу души, они гуляли по сонным улицам. А потом на северо-востоке запылало небо, солнце пробивалось к горизонту. Лесков с удивлением проговорил:
— Наденька, уже утро!
— Уже давно утро! — засмеялась она. — Ты так увлекся, что ничего не видел. А я всматривалась в твое лицо, как оно постепенно светлело.
Он снова проводил Надю до дверей ее дома. Но и теперь им трудно было расстаться. Они условились встретиться днем на фабрике и провести вместе вечер. Она поднималась вверх по лестнице, а он, стоя внизу, махал рукой.
— Днем! — кричал он шепотом, чтоб не разбудить соседей. — И вечером! И всегда!
Она отвечала тоже шепотом: — Днем. Вечером. Всегда.
Лесков возвращался медленно. От дома Нади до гостиницы было триста метров, но ему потребовался час, чтобы дойти. Лубянский спал сном тяжко потрудившегося человека. На столике лежало письмо от Юлии.
Юлия сообщала о приезде в Ленинград, о том, как они устроились, как хорошо все складывается у Николая и у нее, делилась радостью: у них будет ребенок. «Николай просто удивителен, я все больше его люблю, — писала сестра, — а теперь он так за мной ухаживает, так оберегает, что мне даже совестно. Я очень счастлива, Санечка, бесконечно счастлива!»
24
События с каждым днем увеличивали темп движения. Разрешались старые драмы, рушились старые препятствия — возникали драмы новые, воздвигались новые препятствия.
Анюта ушла из лаборатории дежурной на заводскую подстанцию, Галан потребовал от нее, чтобы она переменила место работы, Анюта не посмела спорить. Закатов ходил злой и неразговорчивый. Он и раньше пропадал в наладочной, не считаясь со временем, сейчас не всегда уходил и на ночь — поспать можно было у Лескова на диване. В первые дни после перевода Анюты он пытался с ней встретиться, но Галан заходил за женой на новое место ее работы, не отпускал ее никуда одну. Закатов засел за письма: длинные рассуждения прерывались стихами, стихи выливались в признания, все заканчивалось отчаянными призывами возвратиться. Он не знал, сколько слез пролила Анюта над его признаниями, у нее хватило мужества не отвечать. Закатов совсем упал духом, забросил стихи и письма, с яростью ринулся в работу — это было действенное лекарство, живительный эликсир от всех скорбей. А дело шло, все яснее вырисовывался успех, работа захватывала и отвлекала.
Трудные минуты пережила и Маша. Несчастье ее состояло в том, что она была привязчива, добра и доверчива, она вслушивалась только в хорошие слова. А так как нравились ей к тому же люди, легко рассыпавшие эти хорошие слова, то она часто спотыкалась и на ровном месте. На Селикове Маша споткнулась — больно ушиблась: на ровное место этот человек не был похож, он и в диком кустарнике торчал бы, как неперелазный пень. Маша забыла о Лескове, не только об Алексее, готова была идти на все. Селиков быстро растолковал ей, что о любви не может быть и речи. Объяснение состоялось под мельницей, в гигантском подвальном этаже, наполненном сыростью, грохотом вращающихся наверху мельничных барабанов, густой сетью водопроводных труб и сточными желобами. Селиков забрался сюда выверять механизм, регулирующий подачу воды, а Маша примчалась с ведром пульпы. Она должна была отнести ее на анализ, но свернула в другую сторону: любящему верста не околица. Над ними нависал дощатый цеховой пол, в щели струился свет и капала вода, около Селикова тускло светила «переноска».
— Давай так, Маша, — внушительно сказал Селиков. — Вечерок провели отличный — за это благодарность. А правило общее — хорошенького понемногу.
Она не могла поверить: память сохранила ей жаркие упрашивания, льстивые обещания, она еще прикрасила их в своей памяти — слишком все это было далеко от теперешнего хмурого взгляда Селикова и его неприязненного лица. Она с обидой напомнила ему: там, под березкой, он расписывал чувства по-иному, Селиков с насмешкой покосился на нее.
— А как надо было? Давай побалуемся, а там ты в лес, я по дрова? Вроде не этого ты от меня ожидала, говорил, что тебе хотелось. Ты ведь чего желала? Лескова позлить. Мне тоже кое-кому нос следовало натянуть… Длинной любви перед этим у нас с тобой не было, сама только от других губ оторвалась. Так что давай не будем, Маша, а останемся хорошими друзьями.
Этого уже нельзя было по-другому истолковать, приукрашиванию такое объяснение не поддавалось. Маша была одинаково щедра на любовь и на ярость. Селиков сперва удивился, потом расхохотался: впервые ему приходилось слышать от женщины такую брань, ему это даже понравилось. Его веселое лицо привело ее в неистовство. Он наконец обиделся.
— Заткнись, дура! — крикнул он грубо. — У меня расправа короткая, не постесняюсь, что ты девка.
В ответ она выкрикнула новое ругательство. Он метнулся к ней с кулаками, ярость изуродовала его лицо. Она схватила ведро с пульпой, струя едкой грязи — раздробленная руда с маслянистыми реагентами — хлынула на него, потекла по груди и спине. Если бы Маша теперь попала в его руки, ей пришлось бы плохо. Но в небольшом и крепком ее теле гнездилась смелая душа. Отшатнувшись, стирая пульпу с лица, он не заметил, как она схватила висевшую на гвозде «переноску» — тяжелую палку с закованной в железную сетку лампой. И когда, зарычав, Селиков снова кинулся на Машу, на лоб его обрушился страшный удар — вспышка света ослепила его, кровь залила глаза, со звоном лопнувшая лампочка засыпала щеки раскаленными брызгами стекла. Неожиданный удар, боль и мгновенный переход от света к темноте обманули его: ему показалось, что у него выжжены глаза. С воплем он бросился к лестнице, в смятении нащупал перила, двумя прыжками вынесся наружу и, зажимая лицо руками, помчался по цеху.