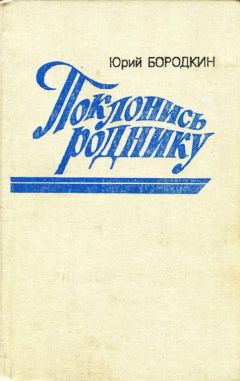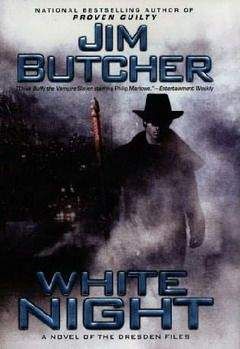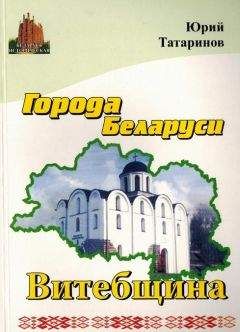Юрий Бородкин - Кологривский волок
Сухо поздоровался с ней и с Анфисой Макашиной, повеличавшей его Егором Васильевичем, в сани не сел — шагал впереди подвод, щурясь от синевы снегов. Лошади иногда оступались, проваливаясь копытами чуть не до земли, так ненадежна была дорога. До сарая, где ворохом, прямо на елани, хранился овес, пришлось сначала торить след. Несколько раз пробрели туда-сюда по сыпучему, как песок, снегу: когда задевали плечами друг друга, Егору становилось не по себе, словно кто-то приневолил их к такой близости: сошлись в буквальном смысле на узенькой дорожке Они ли были повенчаны, наречены мужем и женой? Они ли клялись в любви друг к другу, и как могла любовь превратиться в ненависть? Так давно, так мимолетно было их короткое счастье, оказавшееся роковым. Все отошло в такую даль и глубину, что только памятью можно достать, и то не верится, точно не с тобой, а с кем-то другим происходило.
Настя с Анфисой затаривали мешки, Егор таскал их в сани-розвальни, злился, если женщины пытались помочь, подхватывая мешок за углы. Анфиса смекнула, что она — третий лишний, сказала, когда погрузка подходила к концу:
— Настенка, я выеду на дорогу. Пусть моя Марта первая пройдет — она посильней.
Насте почему-то страшно было оставаться с Егором, и в то же время она с одобрением думала о догадливости тетки Анфисы. Хоть словом перемолвиться, правда, по всему видно, что грех ее так и останется непрощенным.
— Зачем ты приехала сюда? — сурово спросил Егор.
— Послали.
— Могла бы отказаться.
— Ты, наверно, забыл, когда я последний раз была в Шумилине.
— И нечего тебе здесь делать. Нечего! — отрезал он.
Конечно, могли нарядить кого-то другого ехать за овсом; сама она сознавала, что, если и увидятся они с Егором, ничего доброго их встреча не сулит: лишнее унижение, потому что неумолимо, навсегда ожесточилось его сердце. Никакой корысти она не имела, ни на что не надеялась, а поступила, может быть, против рассудка.
Настя устало прислонилась к мешкам, лежавшим на санях. Егор курил, сидя на пороге: совсем чужие люди.
— Ведь говорил я Ивану, уезжай, пока до беды дело не дошло… Счастье твое, что ушла ты тогда к тетке в Потрусово: порешил бы я вас обоих из ружья, как пить дать, да и себя заодно, — признался он.
— Что ты, бог с тобой! — изумилась Настя. Ее пугал воспаленный, нервно блуждающий взгляд Егора, даже вздрогнула, когда по драночной крыше с шумом сполз последний ком стаявшего снега.
Егор закашлялся, выплюнул на снег черную от пыли слюну и торопливо, глубокими затяжками продолжал сосать папиросу, как будто его кто-то подгонял.
— Зачем ты губишь себя куревом? Смотри, как колотит кашель, — участливо заметила Настя.
— Пожалела! — Егор язвительно покривил губы. — Езжай. Все между нами поделено. — Помолчал и добавил: — Кроме Шурки. Иван не обижает его?
— Пальцем не тронул.
— Что-то давно не наведывает нас? Ты ему не препятствуй… Езжай, говорю!
Она не чувствовала за собой права возражать или оправдываться перед ним, понимая его болезненную раздражительность, долго смотрела на него с тем состраданием, с каким смотрит мать на бесталанного горемыку сына. Дернула вожжи и, нехотя ступая по разрыхленному снегу, побрела за подводой. Егор с тоскливой злостью провожал ее взглядом.
На черемуху уселась пара скворцов, трепеща сизо-зелеными крылышками, они принялись затейливо пересвистываться. «У них-то, птах беззаботных, небось не бывает, как у людей. Вишь, заливаются на все лады, — завистливо подумал Егор. — А нашего брата иной раз так прижмет, что белый свет тошен».
Он подчистил лопатой остатки зерна и пошел на конюшню взять в починку хомут, у которого лопнул гуж. На пути к дому его внимание привлекла небольшая полынья, образовавшаяся вокруг проруби в пруду, из которого поили лошадей: заметил множество черноспинных карасей, поднявшихся из застойной: глубины, чтобы поотдышаться. Прямо ладошкой зачерпнул и выплеснул на снег одного из них. Понес было домой, чтобы позабавить дочку, но почему-то вспомнилась сказка, подумалось суеверно, что и этот карасик, может быть, не прост — вернулся и отпустил его на волю.
Поставив хомут, на носки сапог, чтобы не запачкать в конском помете, он забывчиво стоял над прорубью. Побередил сердце, и теперь не скоро оно отойдет, будет саднить, как застарелая рана.
5
С детства завидовал Сергей своему соседу охотнику Павлу Евсеночкину: тоже мечталось побродить с ружьем, да не до того было, когда шла война. Только теперь исполнилось давнее желание: с централкой самого Евсеночкина (зрение стало подводить старика, не понадобилось ему ружье) он лежал на охапке соломы в шалаше, поставленном в конце Чижевского поля. В бойницу между елочками, составленными пирамидой, наблюдал за опушкой леса, над которой растеклась огненная лава зари. Он был счастлив в этот момент, как бы возвращал себе то, чего был лишен в юности. Он вырос среди этой природы, но, кажется, у него не находилось времени уединенно и неспешно любоваться ею.
Раннее тепло освободило поля от снега, лишь по краю леса лежал он белой каймой. В бороздах блестели лужи, что-то чмокало в наводопелой земле, как будто, отогреваясь, она начинала всходить, как опара. Чуть справа, над разливом Песомы, плоским облаком лег туман, отрезавший угористое заречье, похожее сейчас на остров… Там, на этом причудливом острове, ночевало солнце, уже заметно, как пульсирует его свет — вот-вот, раскаленное докрасна, оно торжественно всплывет из какой-то гигантской жаровни.
И вдруг среди нерушимой утренней тишины разнеслось тетеревиное бормотание, так что сердце невольно встряхнулось в азарте. Где он, косач? Ах, вон головешкой чернеет на березе! Еще один опустился на поле, развернув белый хвост, грозно чуфыкает. Теперь только терпение; ноги зябнут в резиновых сапогах.
Наконец дело дошло до драки. Соперники по-петушиному наскакивали друг на друга, перекувыркивались в воздухе, затем, пригибая головы к земле, выискивали новый момент для атаки. Сергей брал на мушку то одного, то другого драчуна, уже палец положил на курок, но услышал мощное хлопанье крыльев над самой головой — тетерев сел прямо на шалаш! Вот он, рядышком, хоть за хвост хватай! Как же развернуться, чтобы не подшуметь? Осторожно потянул на себя ружье, затаив дыхание, стал поднимать его дулом кверху. На какую-то долю секунды птица сорвалась раньше — выстрел громыхнул впустую. Елки зеленые! Выскочил на волю, едва не уронив весь шалаш. Горе-охотник, только распугал дичь.
Чтобы согреться, Сергей добежал до реки и направился вверх на берегу, обходя заводи и лужи: прогуляться с ружьем — и то удовольствие. Жаль, что брата Леньки нет дома, вдвоем было бы интересней.
Большое дрожащее солнце плыло по реке. Туман сошел, лишь кое-где повисал легкий взгончивый парок. Вода напирала мутная, неукротимо-быстрая, она размывала осыпающиеся берега, гнула затопленные ивняки. А луговые разливы оставались зеркально-чистыми, они казались настоящими озерами в своем кратком величии: пройдет неделя-другая, и на их месте обнажатся прошлогодние стожары, рыбацкие и коровьи тропы. Как хорошо, как привольно было находиться среди этого царства воды, прорвавшей зимние крепи! Иногда Сергей просто так, от удивления, останавливался, чтобы с какого-нибудь крутобережья окинуть взглядом все поречье, вдохнуть допьяна резкий воздух. Усмирялась, вознесенно замирала душа, как будто одному ему открылось диво-дивное.
День нарастал. Кажется, еще круче, полноводней катилась Песома, ее сила была уверенной, молчаливой, без летнего ручьистого перезвона, только изредка с шорохом натыкались на ивняк истаявшие в пути остатки льда. Умоется земля, сгонит пот прошлогодней страды — помолодеет, так что даже опавший лист запахнет свежо и чисто.
Вспугнул пару уток, выстрелил вслед и, не огорчаясь промахом, зашагал дальше через дымчато-сиреневые ольховники и налившиеся краснотой березняки, еще хранившие обветшалый снег. Вспомнилось, как торил здесь тропы с багром на плече, сбивал до мозолей кирзачами ноги. Вместо матери ходил, потому что и женщин посылал колхоз на сплав. Разве с их сноровкой справлять такую тяжелую и опасную работу у большой воды? Да и мужики-то, что на сплаве, что в лесу, были бракованные, не годные для фронта. Может быть, впервые шагалось ему берегом весенней Песомы легко, свободно, с прогулочной беззаботностью. На обратном пути дал большого крюка, чтобы зайти в село, купить курева себе и отцу.
Наверное, не к сроку это было, не под настроение, но задержался на кладбище: повинился перед бабкой за свое опоздание, исполнил ее давнюю просьбу. Оглушенный галочьим гамом, постоял с последним поклоном над обтаявшими холмиками ее и деда, размышляя о том, как много родни схоронено здесь — может быть, сотни живших когда-то на этой земле людей, потерявшихся в памяти, потому что, несмотря на непрерывную связь, память отступчива. Вот есть две дорогие сердцу могилы, есть еще полустершийся холмик какой-то прабабки, о которой Сергей уже не имеет ни малейшего представления, других за этой прабабкой уже не отыщешь, не разглядишь, как на картине, изображающей толпу: передние лица отчетливы, а дальше — расплывчатые, размытые расстоянием, вовсе сливающиеся в серую массу. Там, в дальней дали, не только однокровные Карпухины, пожалуй, и все односельчане были родней друг другу, но растеклось это родство по разным фамилиям, и оказалась коротка крестьянская родословная. Вот они, два холмика под сосновыми крестами… И еще раз Сергей клятвенно помыслил о том, что, как бы ни была бедна земля отцов и дедов, искать доли в иных краях он больше не будет.