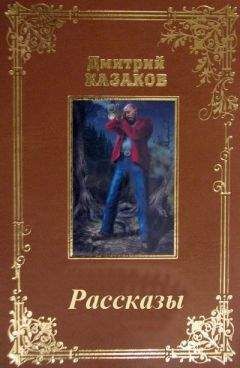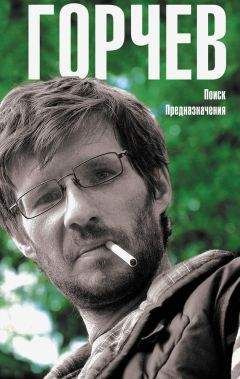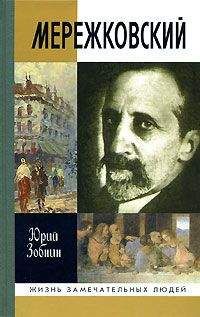Дмитрий Урин - Крылья в кармане
О смерти Маяковского мне тяжело спрашивать. Ужасная острота!
В «Психологии общественных настроений», незаконченной книжке Л. Н. Войтоловского, рассказан следующий факт.
Во время эпидемии самоубийств в 1907, 8, 9 годах в каком-то городе, кажется, Симферополе, в цирке шел водевиль «Я умер». Играли лилипуты. В самый комический момент, когда один из героев пропищал: «Я умер», во втором ярусе какой-то остряк, перегнувшись через барьер, крикнул всему зрительному залу: «И я умер!» — и застрелился. Трагическая непоследовательность! Можно ли обвинять человека, когда он так непоследователен!
Правда, мой ребе говорил, что можно непоследовательно жить, а умирать приходится всегда последовательно, — но на старика можно не обращать внимания. Вы видите — он меня ничему хорошему не научил.
В Киевском зоологическом саду два года тому назад умер слон. За два дня, пока студенты ветеринарного техникума не сорганизовали субботник по подъему и препарированию покойника, пока серая туша с конвульсивно поджатым хоботом лежала на траве, через зоосад прошло 8000 посетителей. Я и тогда не понимал, чем мертвый слон интереснее живого. Я знал его давно и часто стоял у его перегородки. Мне было очень приятно чувствовать себя маленьким. Может быть, потому, что именно здесь я был маленьким, как все. Чуть больше, чуть меньше — какая разница по сравнению со слоном. От него пахло украинским навозом и прелой прохладой бабушкиного погреба. Я наизусть знал этот запах с детства и не верил экзотическому слонячьему паспорту. Все это не имеет никакого отношения к делу — вспомнил же я об этом, когда речь зашла о слонах.
Дорогой Яков Захарович! Простите меня за танцующий ход мыслей, за то, что я пишу Вам просто письмо и не прошу ничего такого — ни денег, ни одолжения, ни даже направленной внимательности. Дело в том, что Киев сейчас совершенно украинский город почти без русской колонии, и мне хочется, мне надо чувствовать существование Москвы реально, а не рефлекторно. Знаете этот опыт? Рефлексолог подносит к уху испытуемого часы. Глаза закрыты. Чрезвычайно медленно он отводит руку с часами в сторону:
— Внимание! Когда вы перестанете слышать тиканье, скажите: Ближе!
Проходит три-четыре минуть). Рефлексолог уже давно спрятал часы в карман и остановил маятник, а испытуемый говорит: «ближе», «дальше», «ближе», «ближе».
Так я ощущаю Москву. Ближе, товарищи, ближе! А то, черт его дери, я уже не слышу московского тиканья. Напишите мне. Попросите это сделать товарищей. Я пишу, вернее собираю «Утопию» и пьесу. Написал три небольших рассказа. Смертельно скучаю по газете. А ведь всю жизнь ее ненавидел!
Интересуюсь организовать лето. Жду письма. Привет Елизавете Борисовне и всем, которые друзья или похоже. Адресуйте мне в Киев, на улицу Пятакова, д. 30, кв. 9.
Ваш Дм. Урин.
Москва, 8 июня 1934 года
Дорогой Яков Захарович!
Второй раз я уже в Москве и не встречались с Вами. Поверьте, что это очень огорчает меня. В эту свою поездку я очень много проболел. Мне стыдно показывать себя Вам в унылом виде. Скучные мысли не способствуют продолжению старой дружбы, и я поэтому немного прятался, сказать по правде.
Меня отвозят сегодня, но у меня есть причины надеяться, что я буду работать удачней, веселей. Через два месяца я должен приехать снова. Меня очень удивило, что московская часть нашей «группы» редко встречает Вас. Вот для них нет никаких оправданий — забыть, как Вы тянули всех нас за уши в большую жизнь, литературу и всякое такое. Я это очень-очень помню и именно поэтому стесняюсь, что я не «вытянулся» и сосредоточенно занимаюсь своей воистину разбухшей печенью.
Обязательно восстановлюсь и приду к Вам. Привет Елизавете Борисовне.
Целую Вас, Дм. Урин.
Яков Черняк. Набросок, выполненный художницей Е. В. Пастернак.
Во втором письме выражается надежда на выздоровление, — но к этому времени Дмитрий Урин знал, что обречен, конверт с завещанием, в котором он писал, что относится к смерти «как к явлению, уже коснувшемуся его», был запечатан и ждал своего срока.
После смерти Урина его жена, Суламифь Моисеевна, актриса Киевского драматического театра, пыталась как-то продвинуть дела с публикацией его произведений. Она надеялась на помощь Якова Захаровича, не раз писала ему. Однако, судя по всему, в «комиссии по литературному наследию Дмитрия Урина», назначенной им самим, единства не было. Ю. А. Бер, человек необычайно активный, энергичный, имел свое мнение по поводу ведения дел, он атаковал Суламифь Моисеевну из Москвы своими советами, чем немало ее возмущал. Рафаил Скоморовский, «руководитель комиссии», да и другие ее члены, были заняты собственными делами. Кто-то из них даже высказывал вдове «подозрения в своекорыстии».
В письме Я. 3. Черняку от 29 октября 1935 года С. М. Урина пишет:
Письмо-завещание Мити я обнаружила среди бумаг покойного, и я оповестила об этом его друзей и родных — этого достаточно, чтобы избавить меня от всяких подозрений в своекорыстии <…> Твердо придерживаясь текста завещания, надо помнить, что отдельные члены комиссии не вправе давать директивы мне, как это делает товарищ Бер, а если есть необходимость изменить какие-либо мои действия, то надо обращаться к председателю комиссии товарищу Р. С. Скоморовскому <…>
Яков Черняк. 1929 год.
Сборник, который готовил Я. 3. Черняк в Москве, не был издан по не зависящим от него обстоятельствам. Известно, что в 1936 году, после начала известных политических процессов, Я. 3. Черняк был обвинен в сотрудничестве с Л. Б. Каменевым и отстранен от работы. Наверное, были проблемы и у других членов комиссии. Знаю, что мой отец, несколько лет сотрудничавший в газете «Известия», руководимой Н. И. Бухариным, чтобы избежать ареста, колесил по стране, читая лекции по истории в самых отдаленных ее уголках.
В результате единственной посмертной публикацией произведений Дмитрия Урина стал небольшой сборник с шестью рассказами, выпущенный в Киеве в 1936 году.
Ни Л. И. Славин, ни К. Я. Финн, ни Р. С. Скоморовский — писатели, близкие Урину, — в своих произведениях, в том числе и документальных, не вспоминают о нем ни единым словом. Зато упоминание о Дмитрии Урине я неожиданно встретила в сборнике воспоминаний о Пастернаке. Известный поэт и литературовед Лев Озеров, рассказывая об одном эпизоде, иллюстрирующем отношение Виктора Некрасова к Пастернаку, пишет: «Виктора Некрасова я знал по Киеву, где в начале тридцатых годов мы посещали литературную студию, которой руководил блестящий рассказчик и драматург, рано умерший Дмитрий Эрихович Урин».
Куда же исчез архив Урина? Каким образом попало к моему отцу его завещание? Теперь никто уже не даст ответа на эти вопросы. Много лет лежал конверт с завещанием в папином архиве. Обнаружив его, я поняла, что теперь оно обращено ко мне, поэтому я, и никто другой, должна его выполнить, что и пытаюсь сделать в меру своих возможностей.
Дмитрий Урин. Конец 1920-х годов.
Завершить этот очерк о Дмитрии Урине мне хочется его единственным уцелевшим стихотворением: перепечатанное папой, оно сохранилось в его архиве. Помню, папа очень любил это стихотворение и читал его с большим чувством — оно напоминало ему о юности и рано ушедшем друге.
Я мечтаю о женщине.
Что тут стесняться, ребята.
Я в стихах не совру —
даже голос немного хрипит.
Разве можно забыть,
что она приходила когда-то,
Вызывала меня и кричала
у окон моих:
— Митя дома? И уже
выбегаю навстречу,
Так, что лестница… так что
только держись….
И уже совершенно понятен
сегодняшний вечер,
И понятной становится вся моя,
вся моя жизнь.
Я когда-то мечтал написать
гениально поэму.
По-сердечному просто, как будто бы
люди — родня,
Чтобы я человечески тронул
какую-то тему,
И чтоб все обратили внимание
на меня.
Потому что я знаю, что музыка слов
охладела:
Мама жарит котлеты,
невеста читает журнал…
Если только подумать: какое,
какое им дело,
Что поэма великая этому миру
Нужна.
Я мечтаю о женщине,
что тут стесняться, ребята!
Я в стихах не совру,
даже голос немного хрипит.
Разве можно забыть, что она приходила
когда-то,
Вызывала меня и кричала у окон
моих…
Киев 1926