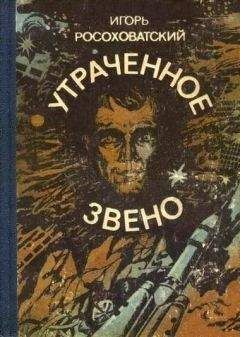Виталий Трубин - Теплое крыльцо
А дальше в палатах спали, читали газеты, разговаривали железнодорожники. Они смотрели на меня, как на давно знакомого, и всегда отвечали на мое «здравствуйте».
Со здоровьем у меня по-прежнему плохо, но я говорю себе, что все хорошо…
В просторном холле два стула, кресла, застекленные шкафчики.
— Посиди здесь, — сказала сопровождающая меня сестра и вернулась с дежурной, на которой был облегающий фигуру белый халат и косынка.
Дежурная медсестра села к столу, достала бумагу. Потом я ответил: кто я, откуда…
Дописав еще несколько слов, она сказала:
— Пойдешь в пятую. Там свободны две койки. Занимай, какая понравится.
Палата была наискосок от стола медсестры. Я открыл дверь. И вдруг из светлой глубины мне сказали:
— Заходи, Ваня.
За время, что мы не виделись, морщинки на лице Георгия Романовича стали похожи на шрамы, а выпуклый лоб на висках оказался вдавленным, словно Георгий Романович долго шел по дороге и эти впадины на висках выдул ветер.
— Ну, что ты стоишь? — сказал он мне.
Я несмело подошел к кровати. Георгий Романович протянул мне руку:
— Вот где встретились.
Никогда не думал, что буду лежать в больнице со своим любимым учителем, и тумбочка у нас теперь одна на двоих, и кровати рядом.
— А я и не знал, что вы в больнице!
— Три дня уже здесь. — Он улыбнулся. — Но завтра в хирургию переведут.
— Вот как, — расстроенно сказал я и, помолчав, прошептал: — Что у вас болит?
— Ничего серьезного. Расскажи лучше, какие новости в школе.
— Все по-старому. Только… К нам в класс, вы, наверное, знаете, новенькая пришла.
Георгий Романович вдруг крепко сжал губы, а его небольшой, повыше скулы, рубец покраснел. Через секунду-другую учитель, словно пережив боль, облегченно вздохнул:
— Новенькая, говоришь?
— Да, — сказал я растерянно.
— Здесь, Ваня, — глаза учителя посветлели, — хорошие врачи, а соседи по палате — интересный народ. — Он кивнул на спящих людей: один, очень седой, лежал на боку, протянув руку с разжатыми пальцами, другой спал лицом к стене.
— Воевали, — сказал о них Георгий Романович.
— А-а, — уважительно протянул я и заговорил шепотом: — Вы поправитесь. Наша больница железнодорожная, а железнодорожников хорошо лечат.
— Я не железнодорожник, — улыбнулся учитель.
— Зато наша школа железнодорожная, а вы нас учите…
Георгий Романович остановил меня:
— Лучше поговорим о другом. Я в прошлую пятницу на кружке хотел вам диафильм показать.
— Да-а? Жалко, что вы заболели… — Я горько вздохнул. — Но меня все равно бы не было.
— Ничего. — Поправив подушку, Георгий Романович неожиданно вполголоса стал рассказывать фильм, а рассказывать он любил.
Я сидел, облокотясь на спинку своей кровати, и, как наяву, видел пехотные каре на Сенатской площади, а от конной гвардии, готовой к атаке, меня закрывал вздыбленный «Медный всадник». Над ним плыли серые, тягучие, как смола, облака. Леденил ветер, но на этом, пришедшем с моря, ветру, дышалось свободно. Глядя по сторонам, я заметил, что люди готовятся встретить огнем кавалерию, и вместе с ними я подгонял амуницию, вслушивался в слова команд. Конная гвардия топотала на другом конце площади, и вперед уже выезжал командир эскадрона: конь под ним был вороной, а на черной кирасе конногвардейца червонел двуглавый орел.
— Эскадрон! — ветер донес пехоте слова команды. — Рысью! Марш! — Кавалерия с тяжелым, все нарастающим грохотом тронулась в нашу сторону. Могучие, злобные на морозе кони, набирая ход, прижимали уши, и скоро конногвардейцы перестали их сдерживать.
— Пли! — Пехотные каре окутались дымом, и многим скакавшим всадникам показалось, что земля разверзлась и они падают в глубокую яму, из которой не выбраться.
А потом в толпе разбитых картечью солдат на узкой Галерной улице я видел барона Розена, того самого, которого сошлют в мой город.
Не закончив рассказа, Георгий Романович закрыл глаза и сжал губы.
— Позвать врача? — испуганно сказал я.
— Со мной все в порядке, — громким шепотом произнес Георгий Романович.
Седой человек, сосед по палате, проснулся и сел на кровати, опустив мосластые ноги. У него были клочковатые брови, глаза с красными, как от бессонницы, веками.
— Извините, Семен Петрович, — сказал учитель. — Разбудил…
— Да чего там, — вяло потянулся Семен Петрович и снова поглядел на меня. Две крупные морщины делили его широкий лоб, но седой человек не хмурился, а глядел так, словно я взял у него нужную в хозяйстве вещь, вернул, но положил не туда, где брал.
— Кто такой? — спросил он.
— Челядин, — назвался я.
— Михаилу. Челядину кем доводишься? — спросил Семен Петрович и обул тапочки.
— Сын.
— А… Я тебя знаю. У отца в дежурке видел. Таким еще… — Семен Петрович распростер над спинкой кровати большую ладонь и обнажил в улыбке редкие зубы. — Отец в Восточном парке все так же дежурным?
— Ага, — сказал я.
Семен Петрович разбудил соседа:
— Чикин! Девки под окном весь снег истоптали, а ты все спишь?
— Так не выпал снег-то. — Чикин поднял с подушки кудрявую голову и прищуренными глазами оглядел нас так, будто каждому хотел помочь.
— Здравствуйте, — сказал я и улыбнулся — таким добрым показалось его лицо.
— Привет честной компании! — Чикин почесал затылок. — Однако, снег будет.
— Ты еще неделю назад пророчил, — шутливо усмехнулся Семен Петрович.
— Подвел барометр! — Чикин хлопнул себя по больным коленям.
— Вот у нашего попа был барометр! — Семен Петрович лег и поглядел в потолок. — Помню, два месяца дождь не шел. Поп собирает в селе крестный ход, и всем миром идем бога просить… Старухи на поле плачут, стоят на коленях, и… как в небе загромыхает, откуда что взялось! Ветер бабам чуть подолы не оборвал. Дождь хлынул — боже ты мой! Поп этим дождем к богу все село обернул. Через месяц только прознали, что у попа в доме на стенке барометр. По нему и определял, когда у бога погоду просить!
— Интересно. И куды ж вы того попа девали? — спросил Чикин.
— Я когда с гражданской пришел — попа в селе уже не было.
— Да, в бедности жили, — загрустил Чикин. — Мне в двадцатом году десять лет было. Посылает меня, значит, папаня в лавку, а штаны у меня одни и на коленях протерты до дыр, которые зашить нельзя. Ну, я и одел штаны задом наперед, да в лавку. Иду… Прореха, конечно, сзади. Захожу в лавку чин-чинарем, а тут девки за мною входят… На смех подняли!
Улыбнулся Георгий Романович, а мы с Чикиным рассмеялись. Дверь отворилась, и медсестра сказала:
— Тише, больные!
Мы замолчали. Из коридора доносились приглушенные закрытой дверью шаги.
— Нет ли у вас чего почитать? — спросил я Георгия Романовича.
Он достал из-под подушки книгу в стареньком переплете. Я открыл ее наугад… В заснеженном поле на кауром жеребце скакал воин бородатый и черноглазый, с заботой на смуглом лице — таким бывает мой папка, когда его ночью зовут на работу. За спиной гонца на красном ремне висели богатый, изукрашенный бирюзой колчан со стрелами и лук с натянутой тетивой. Из-под тегиляя — кафтана со стоячим воротником и короткими рукавами гонца виднелся край шубы, но он, все равно страдая от ветра, скакал, втянув голову в плечи. Год назад папка тоже ходил с бородой, но мама велела ему побриться.
Я подумал о них, лег на кровать и закрылся рукой.
К вечеру потянулись с востока серые тучи! Они светлели, синели, и все, что я видел в окне: кустарник, громада близкого неизвестного здания, уходящий в сторону лес, — тоже темнело, и скоро все замерло, как бывает в начале ночи.
В палате неярко светилась лампа. Георгий Романович о чем-то сосредоточенно думал, Семен Петрович с Чикиным переговаривались.
— Все от человека зависит, — говорил Семен Петрович. — Я это знаю давно. Чуть вожжи отпустил — тут и подкосит. Помню, решили мне операцию делать, йодом, где надо, смазали. А на соседнем столе тоже мужик лежал. Стали нас резать. Мужик заорал благим матом, задергался. Навалились на него. Не умолкает! Хирург, который его режет, нервничать стал, а мой врач спокойно работает. Я как лег под нож, так не ойкнул. Врач мне потом спасибо сказал. «Хорошо, — говорит, — вел себя». Так вот, я за две недели поправился, а мужика того еще месяц на работе не было.
— Что же ты с болезнью сердца не совладаешь? — грустно спросил Чикин.
— Это другой разговор… — Семен Петрович пересел к нему на кровать, и в неярком свете они показались мне молодыми. Сцепив руки «в замок», Семен Петрович сказал:
— Помню, сынишка начнет спрашивать: какая она война? А я молчу. Тяжело вспоминать. Когда он старше стал, я ему сказал: «Войну с чужого голоса не узнаешь. Разве что… Вот печка раскалена. Открой заслонку, и когда голову опалит жар, может, тогда что и поймешь из нашей фронтовой жизни».