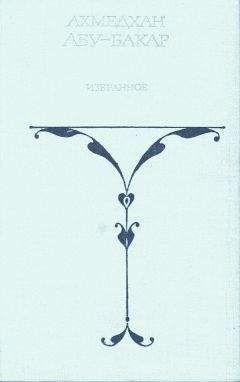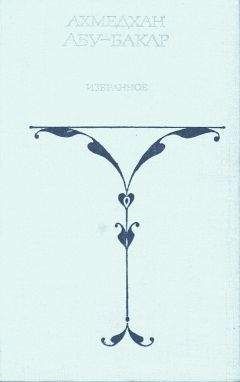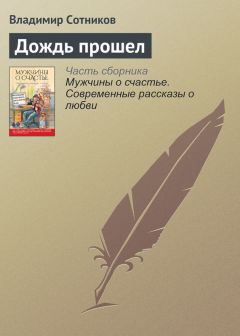Ахмедхан Абу-Бакар - Исповедь на рассвете
Во дворе меня не встретили ни мать, ни отец. Не видно было и наших стражников — нукеров. Какие-то пьяные люди бродили, как видно, без дела и цели. Они схватили коня под уздцы, стащили меня с седла — я не успел ни слова сказать, ни выхватить саблю, — разоружили и связали. Тут я услышал знакомый голос и обернулся: это подошел полупьяный Хамадар, разодетый в наряды с чужого плеча и вооруженный до зубов: все тот же мясистый нос торчком, похожий на морковь, злые глаза навыкат, небритые и нечистые щеки, помятая папаха.
Он тоже узнал меня.
— О, кого я вижу! Молодой князь вернулся в отцовское гнездо. С возвращеньицем! — и пошлепал меня ладонью по щеке; я не сдержался, плюнул ему в лицо. Хамадар спокойно утерся и сказал: — Ну зачем так сердиться, князь? Мы уже не дети, можем поговорить без драки…
— Что делается здесь? — крикнул я, стараясь вырваться из цепких лап, которые меня держали. — Кто позволил?
— А мы и не спрашивали! — ехидно усмехнулся Хамадар. — Сами решили.
— Где хозяева?
— Ты считаешь, что мы не похожи на хозяев? Другая теперь власть, братец.
— Бандиты!
— Ну-ну, полегче, князь, а то не ручаюсь за свой кулак. А ты с ним хорошо знаком, не правда ли?
— Где мой отец? — спросил я, стараясь сдержаться.
— Там! — Хамадар показал на дверь винного погреба.
— Хочу видеть его. Немедленно!
— Он занят и велел сказать, что никого не желает видеть. Все аудиенции отменены.
— Вы что, озверели?
— Есть малость. Только не мы в этом виноваты.
— Ты был и остался зверем! — Кровь прилила к сердцу, в бешенстве я пнул его ногой, да так, что Хамадар отлетел, споткнулся о колоду и рухнул, но тут же вскочил, багровый от злости.
— Отпустите его! — крикнул тем, кто меня держал, и выхватил наган. — Ты что ж, нацепил кресты на грудь и стал лягаться? Холуй русских гяуров! Предатель!
Громоздя брань на брань, подошел и с размаху ударил рукояткой нагана по плечу. Хрустнула ключица, потемнело в глазах, рухнул я без памяти.
Очнулся в винном погребе. Надо мной склонилась мать… Но разве это моя добрая красавица мама?! Постарела, осунулась, глаза испуганного ребенка и тихий голос безумной. Она шептала:
— Ничего, сынок, ничего. Хорошо, что вернулся. Правда, не так, сынок, хотели бы встретить, но что поделаешь… Прости нас…
— Что здесь происходит, мама?
— Люди взбесились, сынок.
— А где же отец?!
— Он здесь, сын мой, здесь… — Она приподняла меня, и я увидел… О, разве можно забыть такую картину!
Отец, князь Кара-Кайтага, сидел в кругу небритых, грязных и страшных людей в овечьих тулупах да в лохмотьях. Они пили вино, а посредине на ковре валялись кучей чуреки и куски вареного мяса. Отец глядел на меня и будто не видел. Признаться, я удивился, как это отец сел с ними за стол, но тут же заметил, что князь привязан к столу и страшно пьян: значит, поили насильно!
Что я мог сделать — руки-то связаны! Но я вскочил:
— Это жестоко! Это невыносимо!
— Проснулся, князь? С добрым утром! Ты, кажется, сказал, что это жестоко?
— Это зверство!
— А когда по приказу твоего отца невинных ссылали на русскую каторгу? Когда выкалывали глаза певцам? Поили отравой? Вырывали языки непослушным? Тогда это не было зверством и ты молчал? — Хамадар стоял передо мной с искаженным гневом лицом. — Говори! Ответь тем, кто рос на улице, как собака, у кого не было ни двора, ни даже циновки, чтоб положить под голову! Что ж молчишь?
— Мой отец не виноват! — в ту минуту я не мог придумать ничего другого.
— Твой отец благоразумнее тебя, князек. Он хоть молчит как рыба. А ты придержал бы язык: мы тоже умеем языки укорачивать!
Я посмотрел на отца. У старого князя после очередной, насильно влитой в горло, чарки вина покатились слезы; он закрыл глаза. И мне почудилось, что все это просто кошмарный сон: так не может быть наяву. Но я не мог проснуться… Неужели для этого звал на родину молочный мой брат Мирза?!
— Хамадар! — крикнул я. — Если у тебя осталась хоть капля совести, чести…
— А ты сомневаешься?
— Хочу сразиться с тобой! Только с тобой! На чем хочешь — саблях, кинжалах, пистолетах… Выбирай сам оружие. Прими вызов!
— Выпей, князь, повеселись с нами… — сказал Хамадар, будто не слыша.
— Сын мой, не надо… — умоляла мать. — Они же не понимают. И какая женщина родила таких зверей!
— Прими вызов, Хамадар! — это звучало уже как мольба, как просьба, униженно.
— К твоему сведенью, князь, — усмехнулся Хамадар, — я не могу швыряться своей головой, она слишком дорого оценена местными властями. Но если тебе так не терпится подраться, то у меня есть один борец, — может, слышал — Сапар из Хабдашки?!
Я почувствовал в этом человеке гибкость и коварство хищника.
Передо мной предстал грозный бритоголовый, желтоглазый великан с волосатыми руками; на его плечах трепел замасленный бешмет; волчьи зубы были оскалены в усмешке… Да, я слышал о таком борце: на празднике в день моего рождения он должен был помериться силой с Али-Пачахом. Признаться, я снова ощутил себя ребенком. А борец медленно двинулся ко мне, дожевывая кусок мяса.
— Ну, что скажешь, молодой князь? Принимаю любые условия, бери любое оружие, — насмехался Хамадар. — А он выйдет безоружным. Идет? Овчину выделывай с равным себе, как любил говорить покойный певец Халил.
— Хамадар, ты — трус! Нам тесно вдвоем на одном канате!
— Что, Хамадар, пощекотать ему немного под мышками? — хрипло спросил Сапар. — Или печенку помять? Как прикажешь?
— Выведи во двор и потешься, сколько захочется.
— Оставьте его! Оставьте! — Мать загородила меня. — Все отняли, все ваше, так отпустите нас с миром!
— Так редко нам удавалось, княгиня, сидеть в таком обществе! Ха-ха-ха…
Кто знает, чем все кончилось бы, но тут раздался топот множества коней, выстрелы, крики, шумно распахнулась дверь и в погреб влетел один из тех, что связали меня во дворе, и прокричал:
— Таймаз приехал. Таймаз!
И все пировавшие в погребе насторожились и протрезвели. Только хмельной Хамадар старался казаться независимым.
— Что мне Таймаз?! Я здесь хозяин! Цыц, сидеть на месте!..
Но его уже не слушали. Все вскочили, готовые разбежаться.
В дверях появился молодой атлет, сабля, украшенная кубачинскими мастерами, и маузер в деревянной кобуре висели на поясе. Да, это был Таймаз, но теперь он выглядел старше своих лет. На чисто выбритом лице — черные, как перья стрижа, усы; суровые складки между бровей; злой огонек в глазах…
— Ах, вот вы где, щенки, вскормленные ишачьим молоком! Что здесь происходит?
Никогда б не подумал, что это голос Таймаза — такой грубый, хриплый…
— Эй, Хамадар, тебя спрашиваю!
— Вот. Веселимся тут с почтенным семейством… — уже заискивающе вымолвил Хамадар.
— Ну-ка, подойди! Ближе, ближе! Вот так. Посмотри мне в глаза! Что, совесть мучает?
— Да, есть немного…
— Виноватым себя чувствуешь? Отвечай!
— Да, виноват, Таймаз.
— Мой приказ получил?
— Да.
— А почему не явился с отрядом к полустанку, где ждали тебя?
— Да вот твой тесть оказался таким гостеприимным…
Хамадар не договорил.
— Подлец! — И Таймаз с размаху ударил плетью по раскрасневшейся морде Хамадара; кровь брызнула из щеки. — Вон отсюда! Все вон! Там за свободу Дагестана кровь льется, а они отсиживаются в винных погребах…
Все выбежали из подвала.
Мы остались одни: моя растерянная, рано поседевшая бедная мама, которая, казалось, даже стала меньше ростом; отец, то ли потерявший сознание, то ли опьяневший от насильно влитого вина, безучастный, как бы отсутствующий, и я, будто оглушенный происшедшим.
Таймаз еще раз оглядел просторный погреб, заставленный винными бочками, и, словно только теперь увидев меня, холодно спросил:
— А ты откуда взялся?
— Приехал поглядеть, как твои бандиты издеваются над стариками.
— Не смей называть их бандитами!
— А ты поверишь, если назову святыми?! Может быть, скажешь, что не имеешь к ним отношения? Или извинишься за все передо мной?
— Нет, не скажу и не извинюсь. Но распущенности не потерплю, и Хамадар еще получит по заслугам! — Ловким движением Таймаз разрезал веревку, которой был опутан отец; затем перерезал кинжалом и путы на моих руках.
— За жизнь вашу не ручаюсь, — сказал он, — а потому советую уехать отсюда раз и навсегда.
— Не очень-то благородно с твоей стороны, зятек! — отозвалась мать. — А ведь я думала, что ты добрый человек… Тьфу на твою голову, изверг! Где моя дочь? Еще не убил?
— Успокойтесь, мать.
— Какая я тебе мать?! Где дочь, спрашиваю!
— Жива и здорова. И любит меня.
— Уж не она ли поручила расправиться с нами?!