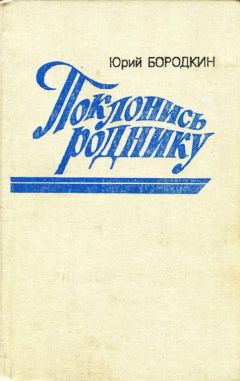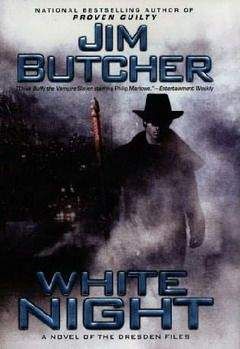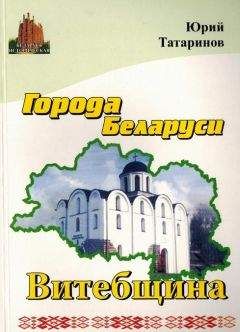Юрий Бородкин - Кологривский волок
Серега, позабыв про усталость, побежал по рыхлой пахоте к трактору. На ходу забрался и сел на тряское крыло.
— Здравствуй, Люсь!
— Здравствуй!
Ладонь у Люськи масляная, горячая. И лицо испачкано, а карие глаза блестят, смеются.
— Надо помощника?
— Помогай, коли не лень. — Люська подала конец веревки, привязанной к рычагу плуга.
Она обрадовалась Сереге. Скучно одной в поле. Да и в деревне нет для нее кавалеров, Люська лет на шесть старше Сереги. Но его это не смущает: среди взрослых он привык быть взрослым.
— Ты чего так похудел? Будто на тебе пахали. Или влюбился? — насмешливо допытывалась Люська.
— Тебя бы разочек послать на сплав. Люсь, дай порулить, — попросил Серега.
Поменялись местами. Он уже пробовал водить трактор прошлой весной. Вот где сила! В ладони бьет дрожь двигателя и отзывается каким-то восторгом во всем теле. За ильинской дорогой бабы рассевали овес, шли косой шеренгой с лукошками на лямках, как барабанщики. Точно по команде взмахивали руками, и зерно белым дождем вспыхивало перед ними. «Видят ли?» — гордо думал Серега, начиная новый загон поближе к дороге. Трактор упрямо тарахтел. Правое переднее колесо, отполированное землей, слегка виляло в борозде; поле плыло навстречу, как бы зыбилось, и дальние увалы плавно покачивались…
Остановились на загумнах. Уши заложило, Серега будто оглох на какое-то время. В радиаторе взбулькивала, парила вода, и весь трактор, казалось, накалился, а теперь медленно остывает, масло лоснится на выпуклом поддоне, как пот на боках загнанного жеребца.
Отсюда было видно все поле, еще не успевшее заветреть после плуга, утомленно-покорное. Вытирая ветошкой руки, Серега торжествующим взглядом окинул его и зашагал рядом с Люськой в деревню: оба прокаленные солнцем и пропахшие керосином. Нравился Сереге этот теплый машинный запах.
6
Дорога к дому. Сколько раз представлялась она там, на фронте, и казалось невероятным, что доведется увидеть родные места, спокойное небо над солнечными перелесками и полями, знакомые деревни: Бакланово, Ефимово, Савино…
Иван Назаров возвращался по ранению, осколком разорвало живот. И сейчас еще покалывало в левом боку и отдавалось при каждом шаге. Но впереди был дом! Не мог унывать бывалый солдат, прошагавший три года дорогами войны.
Дорога вползла на изволок. Черемуховым запахом потянуло от реки. Сейчас за излукой откроется Шумилино, блеснет под кручей вороной гладью круглый омут. Остановился на верхотинке около камня-валуна. Если идти из Шумилина, то дорога как бы натыкается на него и раздваивается: одна ведет в район, другая вниз по Песоме, в Кукушкино. Должно быть, многие века лежит здесь этот камень, источили, изъели его дожди и ветры, выбелило полевое солнце. Прохожие не дают ему зарастать мохом-травою. Горючие слезы баб и девок жгли его. Такой обычай, провожают мужей и братьев всегда до росстанного камня, а отсюда, с верхотинки, долго можно смотреть вслед и махать платками. Ивана так же провожали на фронт.
Здесь погиб отец, первый председатель «Красного восхода»: то ли от кулацкой руки, то ли по несчастному случаю.
Иван отвел взгляд от валуна. Горло свело. Расплывчатым пятном задрожали в глазах кудрявые деревенские березы. Дрогнуло солдатское сердце. Не стыдно было, потому что никто не видел.
Под берегом послышались голоса:
— Побыстрей, побыстрей заводи! Подрезай!
— Вота-а! Щуренок стоит, дядя Паша! Большо-ой!
Кто-то бултыхнулся, вероятно, запнувшись за корягу, выругался. Мужики тянули бредень мелким заливчиком, беспокоили чистую песомскую струю, обметанную ветлами и черемухами. Глубина тут — по грудь. Парнишка с портяной сумкой поджидал на запеске: он собирал улов.
Иван узнал по гнусавому голосу Евсеночкина, обрадованно помахал пилоткой и крикнул:
— Э-эй, рыбаки-и!
Остановились в воде, задрали головы. Один бросил головец бредня — и вплавь к берегу. Запыхавшись, влетел на кручу.
— Серега? — удивился Иван. — Черт долговязый, да ты меня перерос! Совсем жених!
— Здравствуй, Ваня! — Серега восхищенно тряс руку Ивана, рассматривал сверкающие медали, завидовал солдатской выправке.
Гимнастерка без морщиночки, аккуратно подобрана под широкий ремень, пилотка лихо прилеплена набок. Плотный, плечистый. Лицо стало жестче, обветрело, скулы заострились: пообточила война.
— А это Минька ваш, — кивнул Серега на парнишку, взбегавшего по тропинке.
— Минька, чего глазами хлопаешь? Сигай сюда скорей! — поторопил Иван.
Тот с разбегу приткнулся к нему, затаился. Пока обнимал его и гладил волосы, мягкие, как тополиный пух, поднялся и Евсеночкин. Морщинистое лицо его посинело от холода, рваные портки прилипли к кривым ногам.
— Здорово, служивый! Насовсем?
— Отвоевал, дядя Паша.
— Ну и слава богу! Стало быть, везучий.
— Как сказать.
— А всяко. — Евсеночкин примазал мокрой ладонью жидкие волосы, лукаво скосил глаза. — Первый ты из шумилинских вернулся, да еще к празднику: посевную сегодня справляем. Видишь, задание бабы дали рыбки наловить.
— Минька, покажи сумку. О-о, славные щурки!
— Вота какой попался! — Минька вытащил горбатого окуня.
— Сейчас из-за тебя упустили щучку, — посетовал Павел.
— Значит, вечером праздник. Рыба посуху не ходит, верно, дядя Паша?
— Без воды не может жить, — Евсеночкин причмокнул и потер ладонь о ладонь. — Мы еще половим. Холодно тут, на юру-то, пошли, Серега.
— Я домой хочу, — запросился Минька, не спускавший глаз с солдатского мешка.
— Беги, только пришли кого-нибудь к нам.
Минька припустил к деревне: не терпелось оповестить своих о возвращении брата. После первой встречи с однодеревенцами схлынуло волнение. Любо было видеть Ивану, как мотыльком трепыхается впереди синяя Минькина рубашонка да мелькают лапотки-скороходы, любо было думать о том, что не унывают шумилинцы, справляют посевную, и, как всегда, снарядили Павла Евсеночкина ловить рыбу, и все рыбаки в Осиповых лаптях: удобно в них, ноги не поранишь ни о камни, ни о коряги.
Кузница тоже встретила привычным, приветливым перезвоном наковальни. Минька нырнул в нее, и смолкла работа. В распахнутых дверях появился Яков Карпухин в длинном кожаном фартуке, в одной руке щипцы, в другой — молоток. Заморгал; большой, заскорузлой ладонью вытер воспаленные кузнечным жаром глаза, будто Иван был ему родственником.
— Первого солдата встречаю, то все провожал.
— Праздник сегодня, говорят, а ты в кузнице.
— Належался на койке-то. Я тут всю весну провалялся, с внутренностью что-то неладно. И силы не стало, Ванюха. А вот торчу у наковальни, потому как некому заменить.
Старик и в самом деле крепко сдал. Плечи обвисли, шея в насечках морщин, кожа на лице потемнела, пожухла, как прошлогодний лист, и борода вылиняла.
— Минька там, наверно, всполошил наших.
— Он и меня-то напугал. Ступай, ужо увидимся.
Коровий прогон. Улица. Любопытные окна (новость успела облететь деревню). Бабы кланяются, некоторые подходят поздороваться, смотрят на него с какой-то счастливой надеждой, как будто он принес весть о победе. Мальчишки сопровождают ватагой, чуточку забегают со стороны, чтобы взглянуть на медали. Иван почувствовал даже растерянность, и улица показалась ему слишком длинной.
Старый дом под высокой березой, скамеечка, в окнах — герань, кладница дров у двора, а там тропинка скатывается гумнами к черемухову берегу Песомы, будто присыпанному снегом. Привычно звякнула кованая щеколда, и навстречу выпорхнула Зойка. Не узнать. В ситцевом сиреневом платье (праздник), русые волосы перехвачены голубенькой тесемкой, вся сияет. Оплела тонкими руками шею, пылающей щекой коснулась подбородка, выдохнула:
— Ой, братушка, не верится!
Мать стояла на крыльце, держась за столбик. Обмерла, как в испуге. И только когда они подошли совсем близко, когда ей послышалось, что Иван тихо окликнул ее, она кинулась к нему и зашлась слезами. Крепко сжимала гимнастерку, боялась отпустить сына, точно он мог исчезнуть в тот же момент.
7
Около Катерининой избы уже толкались ребятишки. Гуляние началось. Назаровы подошли позднее других, всей семьей. Впереди — мать с Минькой и Зойкой. Ивана вела под руку Катерина. Тетка она ему, но разница в годах между ними невелика.
Когда уходил в армию, Катерина еще жила в Горьком. Муж ее погиб в первые дни войны, дочка Любонька умерла. Вот и вернулась она в деревню, сначала к сестре, а потом отделилась, перешла в Румянцеву заколоченную избу. Большая, нескладная хоромина в центре деревни, крыша над двором провалилась, но Катерине он и не требуется: нет никакой скотины.